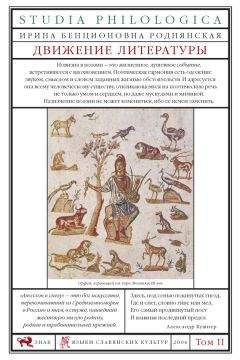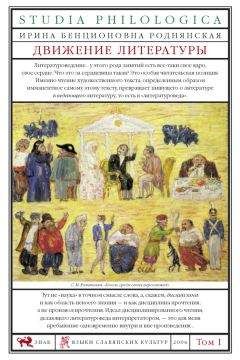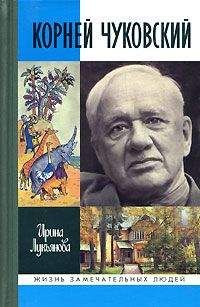Движение литературы. Том I - Роднянская Ирина
Поэма и по сей день волнует неразгаданными загадками. Все, что Блок увидел и расслышал в те потрясающие дни (а он даже полагал, что «оглох» из-за того, что подслушал величайшую тайну истории), – все это он вложил в поэму, не ища и не давая объяснений. Он увидел, как двенадцать уходят в даль времен. (В одиннадцатой главе поэмы цепочка дозорных, продирающихся однажды «черным вечером» сквозь пургу, превращается в символическое шествие: «И вьюга́ пылит им в очи дни и ночи напролет».) Увидел, как плетется позади старый мир – «нищий пес голодный» и стальные винтовочки двенадцати наставлены не на этого пса (ему достаточно пригрозить штыком), а на скрытого впереди, то есть в грядущем «незримого врага». Кто же он? Некоторые толкователи полагают, что это лицо, являющееся в финале. Но такой ответ чреват буквализацией и огрублением символического языка, скрывающего «несказа́нное» (тем более что финальный образ имеет народные, низовые обертоны, откуда и просторечное – с голоса самих двенадцати – произнесение имени «Исус»). Думается, «незримый враг» для героев поэмы – вообще всякий «покой», всякий гармонизирующий предел стихийной динамики, который тем не менее это движение, эту динамику даже без ее ведома «невидимо» и «надвьюжно» направляет. Убедительна или нет такая именно догадка, но, как бы то ни было, с вдохновляющей надеждой Блок ждал небывалых решений и ответов от своей родины. И загадочный апофеоз в финале поэмы побуждает вспомнить слова Александра Блока о художниках: это те, кто «смотрят сквозь тучи и говорят: там есть весна, там есть заря».
Глубокая борозда
Константин Случевский: через голову Серебряного века
Свистуны перед ним Бальмонт, Белый, Брюсов. Они как росчерк изящной тросточкой на песку. А он – как угрюмая, глубокая борозда, проведенная плугом в черной, комкастой, корявой пашне.
С. Н. Дурылин
Хорошо, что Сергей Николаевич Дурылин, знаток искусств и своеобычный искатель высшей истины, не присовокупил к этим трем «Б» Серебряного века четвертое, самое победительное. С именем Блока его замета прозвучала бы чудовищным преувеличением, кощунством. Но и так она может показаться умственной прихотью одиночки, ищущего на обочине родственное себе явление.
А между тем, если иметь в виду не только ближайшее содержание поэзии Случевского (чья мыслительная углубленность, видимо, увлекала Дурылина – и не его одного) и не только «корявость» передачи этого содержания (о чем писали единодушно, иногда, впрочем, с похвалой), а нечто иное – дерзость разведчика, вгрызающегося в грунт, – то Дурылин окажется более чем прав. И тогда уже не борозда на пашне – сравнение это подсказал нашему ценителю прекрасный лирический цикл Случевского «Черноземная полоса», – а штольня или буровая скважина.
Позднее, постоянно цитируемое стихотворение «Быть ли песне?» – как считается, ответ Случевского на «капитулянскую» и вместе с тем вызывающую статью его собрата С. Андреевского «Вырождение рифмы». Случевский говорит, что «пушкинской весною вторично внукам, нам, не жить», что наступает время морозов и бурь – «их завыванья, их мученья взломают вглубь красивый стих»; что в «злые годы всех извращений красоты» и стих обезобразится… Декларативно поэт, рожденный в год смерти Пушкина и воспитывавшийся на идеале классической гармонии, с сожалением встречает новый сезон. Но из-за загородки общих слов выглядывает одно, непроизвольно, даже вопреки намерению, точное: «… взломают вглубь». Случевский как правило ломает «вглубь», в этом разгадка обаяния его «корявости», его «безобразия», оборачивающегося «своеобразием», чуждым «красивости» (Брюсов).
Итак – штольня. Заброшенная ли?
Приведу еще одно суждение, как бы опровергающее (а на деле – дополняющее) Дурылина: «Случевский – это уже декадентство. Сплошь поэтические формулы: розы, облака и проч., но совершенно все разболталось, все скрепы – система гниющих лирических штампов… на этом фоне возможно все что угодно». Это слова Лидии Гинзбург в беседе с Ахматовой, которая, как и спутники ее поэтической молодости, Случевского читала и ценила. Исследовательница, кажется, не до конца отдает себе отчет в смысле своего устно высказанного замечания. А ведь сказано ею: «лирические штампы» – всего лишь фон. На котором возможно «все что угодно». Случевский – энциклопедия возможностей.
Этим обстоятельством объясняется некая бесприютность Константина Случевского в регулярной, так сказать, истории русской поэзии. В каких только «обоймах» не побывало его имя – среди современников, предшественников, потомков. Когда оно начало набирать поздний – после долгой полосы непонимания и насмешек – вес, его стали причислять к поэтам «серебряного века» (так именовали послепушкинскую плеяду, прежде чем название перекочевало по принятому сейчас адресу) – к Тютчеву, Фету, Полонскому, Майкову («юнейший среди нас» – говорил о нем последний). Потом и современники-ровесники, и последующие филологи включили его в круг «восьмидесятников» – поэтов «безвременья»: Голенищев-Кутузов, Апухтин, Фофанов, тот же Андреевский, – чье безвольное следование «лирическим штампам» и вместе с тем тревожная расшатанность «скреп» свидетельствовали о близящемся изломе жизни и поэзии. Но вот пришли «декаденты», старшие символисты, они немедленно признали Случевского родным, впервые ими понятым (на самом деле, недопонятым или, во всяком случае, «недоиспользованным»), и он со своим именем перебирается из прежнего поколения в новое. А дальше – следы внимательнейшего чтения его поэзии в стихах Блока, Анненского, Гумилева, Ахматовой. Наконец приходит авангард – Хлебников, обэриуты, и Случевский, можно сказать, осваивается в этой среде. Затем – Пастернак, Заболоцкий (о чем ниже).
И тут уже начинаешь спрашивать себя: эстафета ли это? Следы ли это пристального знакомства новейших поэтов со стихами Случевского (знакомства, которое всегда можно теоретически предположить, но не всегда – в нем удостовериться)? Или что-то другое – объективно пролагаемые в поэзии тропы рядом с теми, которые когда-то проложил разведчик-первопроходец? А сходство с поэтическими новобранцами, выходит, замечаем мы, а не они сами – и с удивлением констатируем: и это у него, оказывается, было?
Однако вернемся в XIX век и поставим Случевского, всего несколько его строк, рядом со строками его гениального старшего современника. Новизна или эпигонство?
Мысль по видимости одна и та же, тот же и размер. Однако четверостишие Случевского не только не выглядит ослабленным («негармоничным») повторением дивной тютчевской строфы, но буквально кричит о своем «терпком» (эпитет, приложенный к его стихам одним из современников) несходстве с нею.
У Тютчева – полнота мгновения, ощущаемого здесь и сейчас. За переживанием выглядывают, конечно, определенная философия, метафизика, как же без них, но само переживание – совершенно непосредственный лирический выдох, в эту минуту не отягченный рефлексией. «Мгла самозабвенья», «вкусить уничтоженья» – достаточно усложненные, «непушкинские» формулы, но не подысканные с усилием, а как бы цельнорожденные. Случевский, подбирая свой катрен, не вкушает самозабвенья, он погружается в такую пучину рефлексии, откуда единым взмахом не выплыть. После первого стиха, отдающего чем-то допушкинским, неустоявшимся и наивным, – трудная цепочка оксюморонов и антитез, каждое звено которой – маленькая философема, потребовавшая от автора словесного напряжения, а от читателя требующая поэтапного размышления. «Устранен в себе самом» – это не просто растворение в природе, а как бы блаженный паралич волевого («вне неволи, без свободы») и познающего («немыслящий ум») ядра личности; чтобы передать такую тончайшую интроспекцию, уловить неуловимое в себе, слова выискиваются на наших глазах, сталкиваются лбами, как те жуки из раннего стихотворения «На кладбище», над которым потешались профаны-прогрессисты, – и высекают смыслы, с чьей сложностью до конца не может справиться, кажется, сам поэт…