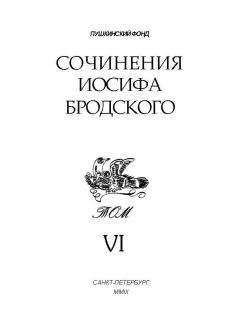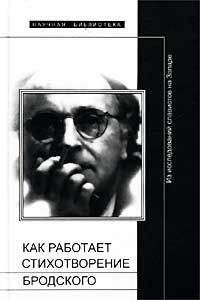Коллектив авторов - Пристальное прочтение Бродского. Сборник статей под ред. В.И. Козлова
Образ глаза, как и другие устойчивые образы произведения, оказывается важным вне зависимости от его терминологического понимания и степени его «речевого осмысления», воспроизводимого субъектом высказывания. То, что глаз является наиболее рыбоподобным органом, никак не сказывается на качестве эротического восприятия, трагического переживания мира и тоски героя по прошлому. То же самое, кажется, можно сказать и о прочих перечисленных устойчивых образах — сколь ни глубокомысленны рассуждения о зеркале, воде или слезе, но наибольшее значение образ приобретает в соответствующем сюжетном контексте: «…он продолжал смеяться, но по щеке у него катилась слеза» (190). Эта рассказанная в предпоследнем эпизоде история измены ценна сама по себе, чувство оказывается переданным благодаря множеству ассоциаций, накопленных читателем в процессе чтения. Оттенки переживаний, зафиксированные как в сюжетных эпизодах, так и в эпизодах-рассуждениях позволяют адекватно воспринимать ситуацию.
Видимость исключительной значимости для мира произведения обособленных образов придает их повторяемость (часто в небольшом фрагменте текста) и то, что устойчивые образы служат исходной, наиболее ясно выраженной промежуточной или конечной точкой отвлеченных рассуждений субъекта высказывания: «Если бы мир считался жанром, его главным стилистическим приемом служила бы, несомненно, вода» [1, с. 89]. Рассуждения эти завораживают читателя, тезисы обрастают все большим количеством аргументов, логика которых лежит на стыке научного терминологического и художественного образного мышления. При свободной манипуляции возможностями обоих дискурсов яйцо может становиться реализацией «…идеи производства пищевых консервов органическим способом…» (139), а кирпичная кладка — автопортретом человека. Естественным центром описанных повествовательных приемов (обнажение структуры, специфика реализации сюжета, акцентирование отдельных образов) является носитель высказывания, который находится в особых отношениях с автором и не является равным герою произведения, выступающему в форме «я»-персонажа. Ярче всего различие между субъектом высказывания и героем проявляется при оценке действий героя с точки зрения носителя речи. Так, например, оценивает мечты героя о смерти в Венеции носитель речи: «Мечта, конечно, абсолютно декадентская, но в двадцать восемь лет человек с мозгами всегда немножко декадент» (126). Зазор между субъектом высказывания и «я», который мечтал купить«…маленький браунинг и…» вышибить «себе мозги, не сумев умереть в Венеции от естественных причин» (125), очевиден, но такой же зазор существует между носителем высказывания и более поздним в хронологическом отношении «я», путешествующим по палаццо и любым другим вплетенным в сюжет «я», которое становится объектом оценки и рефлексии с точки зрения субъекта высказывания. Можно сказать, что «я»-персонаж и субъект высказывания занимают разные коммуникативные позиции и герой произведения появляется тогда, когда получает дальнейшее развитие та или иная сюжетная линия, эпический сюжет в целом. А носитель высказыванияпроявляет себя на тех отрезках текста, где на первый план выходит ментатив, процесс рассказывания и смыслопорожде-ния. Тема высказывания не столь важна, важен сам процесс рассказывания, и яйцо, кирпичная кладка, запах как химическое явление, разница между скоростью света и скоростью звука оказывается в равной мере обязательна и случайна.
Так что еще один образ, отражающий структуру произведения и принцип его построения — «запутавшаяся в водорослях сеть» (129). Многочисленные пересечения мотивов, нарушение хронологической последовательности, размытость и незаконченность сюжетных эпизодов — все это служит развитию данного образа города: «A mesh caught in frozen seaweed might be a better metaphor» (37). В сам этот развернутый образ уже вплетен другой — «frozen seaweed»[135], который в свою очередь ассоциируется у носителя высказывания со счастьем. Ассоциативные связи реализуются в произведении с наибольшей последовательностью, но связи этого типа не всегда могут быть очевидны для читателя. Так, не вполне ясным с этой точки зрения может представляться эпизод — описание фотографии смертной казни. Возможно, сходство ощущений субъекта высказывания при взгляде на эту фотографию и при воспроизведении предшествующего или последующего эпизода, но ни прямых указаний, ни мотивных пересечений в нем не представлено. Некоторые эпизоды подвергаются со стороны носителя речи достаточно подробному комментированию, но это скорее «мысли по поводу», а не попытка объяснить значение эпизода в произведении. Если вернуться к образу сети, то произведение представляет собой совмещение двух разнородных субстанций, разнонаправленных тенденций. В одном случае, в отдельных «главах» или в отдельных частях «глав» первично повествование, «нарратив». Тогда на первый план выходит «я»-персонаж, а произведение начинает тяготеть к повести или роману. В другом случае, особенно когда сюжетный эпизод прерывается или обрывается, на первый план выступает носитель речи, проявляющий себя в оценочных высказываниях и саморефлексии. Рассуждение, воспроизведения процесса мышления в речевом акте становится превалирующим. В последнее время в современной отечественной филологии для обозначения такого речевого поведения начал использоваться термин «ментатив»[136]. Взаимодействием двух коммуникативных стратегий (одна из которых характерна для поэзии И.А. Бродского, что, возможно, обусловливает ее присутствие в прозе поэта) в рамках одного произведения может быть объяснена и специфика сюжетности.
Эссе И.А. Бродского Watermark обладает рядом особенностей, характерных для художественных эссе этого поэта в целом, но с наибольшей выразительностью проявившихся в этом произведении. Наиболее очевидной чертой этого эссе является то, что в нем прямо заявлены цели и принципы построения, которые в процессе реализации дополняются и корректируются. Структура произведения призвана воспроизводить ключевые образы, такие, как лабиринт, сеть, зеркало, вода, но сами образы обретают значимость только в том случае, когда оказываются вплетенными в ту или иную сюжетную линию. Сюжет произведения может быть описан как компиляция нескольких эпизодов, подвергающихся позднейшему осмыслению и толкованию с несколькими возможными вариантами, причем некоторые из сюжетных фрагментов «спрятаны» с помощью устойчивых образов. Все эти особенности делают необходимым обращение к субъекту высказывания и герою произведения, которых можно противопоставить друг другу в рамках диады «нарратив» — «ментатив»[137]. Само произведение представляется по этой причине неоднородным по природе в силу использования разнонаправленных форм высказывания, где сюжетная и рефлексивная проза вступают в сложное взаимодействие. Примечательными с этой точки зрения кажутся заключительные «главы» произведения. Использованные ранее ключевые образы отсылают к уже упомянутом образу слезы, который появляется в кульминационном сюжетном эпизоде, служа завершением всех умозаключений о воде, красоте, отражении, времени и т. п. Но за этим фрагментом следует последний, заключительный, в котором носитель речи, как будто не способный остановиться в своих рассуждениях, продолжает развивать мысль: «Повторяю: вода равна времени и снабжает красоту ее двойником» (190)[138]. Носитель речи повторяется, нарушая и этим демонстрируя принцип, «be-cause we go and beauty stays»[139] (95).
О.А. Джумайло. ПРИСТАЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ: МЕЖДУ МОЛИТВОЙ И ТОЛКОВАНИЕМ
«Чтение поэзии, своей или чужой, напоминает чтение молитвы».
И. Бродский«Почти вся хорошая поэзия сбивает с толку».
И. РичардсТридцатитрехлетний поэт из Советской России, заканчивая одну из своих лекций в американском университете, подошел к доске и написал на ней четверостишье из Одена, затем сказал, что это стихотворение — последний его завет студентам, и попросил прочитать написанное вслух. Иосиф Бродский не раз говорил студентам о чтении как молитве. В сущности, записав текст на доске, он «канонизировал» Одена, сделал его стихотворение молитвой, которую каждый с благоговейным трепетом произносит в храме. Было ли стихотворение Одена возвышенным? Отнюдь, оно было полно безысходности. Почему же тогда это «молитва»?
Стихотворение подобно канонической молитве, которая своей «завершенной буквой», своей органической формой возвещает о смыслах, не подлежащих ереси парафраза. Бродский считал, что наше следование по «тропе звуков» к некогда «темным» образам дарует возможность опознать их как свои, ибо теперь «за словами молитвы молящийся слышит свой собственный голос»[140]. Чтение-молитва для Бродского — метафора развертывания-толкования мира не чужим языком, а всегда сакральным языком самой поэзии.