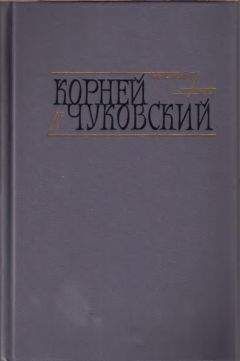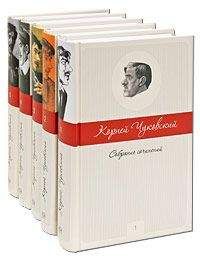Корней Чуковский - Высокое искусство
Я пишу эти строки с большой грустью, потому что мне искренне жаль переводчика. Нельзя сказать, чтобы он был оголтелой бездарностью: в его переводах нет-нет проскользнет какое-то подобие живой интонации, какой-то не совсем раздребезженный эпитет. Я уверен, что сил и способностей у него гораздо больше, чем можно подумать, читая его бедную книжку. Еще не все потеряно, он еще может спастись.
После стоеросовых, шершавых стихов вдруг послышится чистый мелодический голос – правда, немного банальный:
Постой, о нежный соловей,
Побудь со мной в тени ветвей.
Овей печаль души моей
Волною нежных жалоб.
(137)
Вообще нельзя сказать, чтобы в переведенных Федотовым песнях начисто отсутствовала песенность. Есть проблески подлинной лирики в переводе эротических, фривольных стихов – таких, как «Не там ты, девушка, легла», «Что мамочка наделала», «У мамы я росла одна» и т.д., хотя то, что у Бернса выходит улыбчиво, грациозно, игриво, у переводчика звучит почему-то скабрезно и грубо. Как бы то ни было, здесь (а не в переводе поэм) он мог бы добиться удачи. Порой среди расхлябанных и вялых стихов вдруг встретятся крепко сколоченные, ладные, прочные строки:
Голод с матушкой нуждою
Днюют в хижине моей,
Как ни бьюсь, все нет отбою
От непрошеных гостей.
(19)
И в «Дереве свободы» есть несколько мест, которые звучат хоть и не поэтически, но вполне вразумительно.
Однако все эти немногие блестки захламлены грудами словесного шлака, которые не отгребешь никакими лопатами.
Неужели возле переводчика не нашлось человека, который удержал бы его от такого разгула неряшливости? Неужели переводчик до того изолирован от образованных, знающих, подлинно культурных людей? Можно ли так необдуманно губить и свой труд, и свое доброе имя? Если бы он обратился к кому-нибудь из просвещенных друзей за советом и помощью, эти люди, я твердо уверен, убедили бы его без труда, что такие переводы не принесут ему лавров, и дружески посоветовали бы воздержаться от их напечатания.
– Нельзя же переводить наобум, даже не понимая тех слов, которые вы переводите, – сказал бы ему доброжелательный друг. – Ведь это значит сделаться общим посмешищем – особенно в нашей стране, где искусство художественного перевода достигло высокого совершенства.
Здесь этот авторитетный и доброжелательный друг взял бы листы его рукописи, воспроизведенные в его книжке на страницах 170 и 171, и стал бы перечислять те ошибки, которые густо теснятся в его переводе на пространстве двадцати с чем-то строчек.
– Вот, – сказал бы он, – судите сами о своих литературных ресурсах… Бернс в прозаическом предисловии к поэме употребляет этнографический термин charms and spells, который здесь означает «ворожба и гаданья», а вы поняли этот термин как эмоциональное выражение восторга и перевели его такими словами:
– прелесть (!) и очарованье (!) этой ночи, –
(170)
то есть увидели метафору там, где ее нет и в помине, и тем исказили идейную позицию Бернса. Не «прелесть и очарованье» видел Бернс в этих суеверных обрядах, но свидетельство темноты и отсталости шотландских крестьян. Он так и сказал в предисловии: они находятся на низкой ступени развития (in a rude state). Вы же, не поняв этой горестной мысли, заменили «отсталость» каким-то расплывчатым, дымчатым, абстрактным словцом первозданность, которое, в сущности, не значит ничего. Этак кто-нибудь из англичан или французов переведет толстовскую «Власть тьмы» как «Власть первозданности».
И тут же рядом новая ошибка. У Бернса сказано, что осенней ночью под праздник волшебницы феи во всем своем великолепии гарцуют по горам и долам на резвых боевых скакунах (sprightly coursers). В переводе от этих лошадей ничего не осталось, зато о феях почему-то написано:
И каждый склон там озарен
Свеченьем их прекрасным.
(171)
В подлиннике: лошади, а в переводе: свеченье, которое словно автомобильными фарами озаряет всю местность. Очевидно, вас сбила с толку строка, где поэт говорит, что наездницы скакали «во всем своем блеске». Но ведь блеск здесь метафора и принимать ее буквально не следует.
Есть и еще с полдесятка ошибок на крохотном пространстве двадцати с чем-то строк. Но мне кажется, и этих достаточно, чтобы вы убедились, что печатать ваши переводы рановато.
Так сказал бы Федотову всякий доброжелательный друг.
Возможно, что в другие времена расправа Федотова с Бернсом не показалась бы нам такой возмутительной, но теперь, когда искусство перевода достигло у нас небывалых высот, когда даже сильнейшие наши поэты – Анна Ахматова, Твардовский, Пастернак, Маршак, Заболоцкий, Антокольский и их достойные продолжатели Мартынов, Самойлов, Межиров отдали и отдают столько творческих сил переводу, халтурная работа дилетанта кажется особенно постыдной. Как будто среди великолепных певцов вдруг выступил безголосый заика. Его заикание не было бы так неприязненно воспринято нами, если бы в новом поколении мастеров перевода, продолжающих высокие традиции предков, не было таких сильных талантов, как Константин Богатырев (переводы Р.-М. Рильке), Борис Заходер (переводы А. Милна, Чапека и – в последнее время – Гёте) и другие. Или вспомним переводы германских народных баллад, исполненные поэтом Львом Гинзбургом. Благодаря его классически четким, прозрачным и певучим стихам многие из этих шедевров фольклора несомненно войдут (я говорю это с полной ответственностью) в золотой фонд советской поэзии (см., например, «Пилигрим и набожная дама», «Про страну Шлараффию», «Власть денег», «Путаница», «Баллада о Генрихе Льве»[191].
Лев Гинзбург окончательно завоевал себе одно из первых мест среди советских мастеров своими переводами германской поэзии XVII века[192], которые служат суровым укором слишком самонадеянным литературным заикам.
III
Высокие звезды
Сегодня ко мне привязались стихи. Что бы я ни делал, куда бы ни шел, я повторяю их опять и опять:
Дорогая моя, мне в дорогу пора,
Я с собою добра не беру.
Оставляю весенние эти ветра,
Щебетание птиц поутру…
Конечно, самая тема стихов по очень понятной причине не может не найти отголоска в каждой стариковской душе. Но, думаю, они никогда не преследовали бы меня так неотступно, если бы в них не было музыки. Прочтите их вслух, и вы живо почувствуете, как приманчивы эти певучие строки, которые, наперекор своей горестной теме, звучат так победно и мужественно. Прочтите их вслух, и вам станет понятно, почему и в комнате и в саду, и на улице я сегодня повторяю их опять и опять:
Дорогая моя, мне в дорогу пора,
Я с собою добра не беру.
Этот щедрый, широкий анапест, органически слитый с торжественной темой стихов, эти трубные ра-ро-ра-ру, которыми так искусно озвучен весь стих, сами собой побуждают к напеву. И мудрено ли, что этот напев не покидает меня сегодня весь день:
Дорогая моя, мне в дорогу пора…
Чьи это стихи? Никак не вспомню. Старого поэта или нового? Не может быть, чтобы это был перевод: такое в них свободное дыхание, так они естественны в каждой своей интонации, так крепко связаны с русской традиционной мелодикой.
Поэтому я был так удивлен, когда кто-то из домашних, услышав, какие слова я бормочу целый день, сообщил мне, что это стихи знаменитого дагестанца Расула Гамзатова, переведенные поэтом Н. Гребневым с аварского на русский язык. И мне вспомнилось, что я действительно вычитал эти стихи в книге Расула Гамзатова «Высокие звезды», но по плохому обычаю многих читателей так и не потрудился взглянуть, кто же перевел эти чудесные строки.
О Гребневе заговорили у нас лишь в самое последнее время, лишь после того как «Высокие звезды», переведенные им (Я. Козловским), по праву удостоились Ленинской премии.
Между тем Гребнев при всей своей молодости далеко не новичок в литературе, и мне кажется, пора нашей критике приглядеться к нему более пристально.
Перед советским читателем у него есть большая заслуга: долгим и упорным трудом он создал одну за другой две немаловажные книги – две антологии народных стихов. В одну из них вошли переведенные им сотни (не десятки, а сотни) песен различных кавказских народностей, а в другой столь же богато представлен, тоже в его переводах, среднеазиатский фольклор – узбекские, таджикские, киргизские, туркменские, уйгурские, каракалпакские песни[193].
Составить столь обширные своды памятников устного народного творчества и воспроизвести их на другом языке обычно бывает под силу лишь многочисленному коллективу поэтов. Сборники, составленные Гребневым, – плод его единоличного труда. Он не только переводчик, но и собиратель всех песен, не только поэт, но и ученый-исследователь.