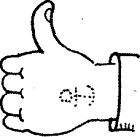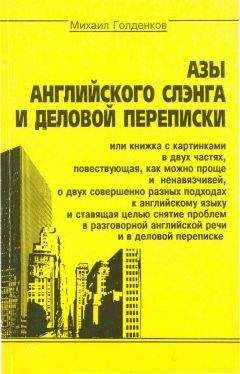Валентина Заманская - Экзистенциальная традиция в русской литературе XX века. Диалоги на границах столетий
В сосредоточенности поэтессы на состоянии одиночества, порой на «сладостном» переживании одиночества – проявление творческой индивидуальности Ахматовой, отражение ее творческого поведения, эмоциональная, психологическая доминанта ее характера, где многое определяет знание своей обреченности на одиночество. Ибо одиночество в судьбе и поэзии А. Ахматовой больше, чем тема, мотив; это условие проявления ее характера – человека и поэтессы. Это контекст, в котором формировалось мужество ахматовского характера, обнаружившееся в самые трагические эпохи ее жизни.
При всем драматизме судьбы А. Ахматовой и ее героини, при всей глубине самовыражения в поэзии, природа ее одиночества – психологическая, бытовая, но не онтологическая, не экзистенциальная. Здесь именно тот случай, когда талантливейшим мастером на протяжении целого периода творчества разрабатывается одна из атрибутивных экзистенциальных ситуаций, но наполняется она принципиально иным содержанием. В связи с этим встает и вопрос, который не решается однозначно: не эксплуатирует ли поэтесса в некоторых ранних произведениях тему и ситуацию одиночества для создания гениально найденного имиджа? И в этом родственность концепции одиночества Ахматовой и Брюсова.
Тончайшие наблюдения над поэтикой «Лпгю Domini», выполненные в развитие концепции антидиалогизма в литературе начала XX века В.В. Эйдиновой, обнаруживают, что и в «Anno Domini», и в «Реквиеме» ахматовское одиночество по-разному выходит как раз в онтологические пространства и приобретает экзистенциальную глубину и наполнение. Все здесь – и трагическое расколотое слово, и многоголосие на фоне одноголосия, и двуустремленность всей структуры стиха – вбирает и конденсирует огромное лирическое напряжение эпохи.
Одиночество передает всю глубину тоски нарождающегося века (личное, социальное, интимное, психологическое, но еще и онтологическое, экзистенциальное). В выражении «тоски нарождающегося века» совпали внутренние задачи и потенциал лирики как литературного рода: служа самовыражению художника, поэзия изображает душевную жизнь русского человека XX столетия «как всеобщую».
Но при таком наполнении концепции одиночества открывается ряд принципиально новых характеристик самой темы, известной и поэзии XIX века. Отсюда ряд ее антиномий и парадоксов. 1. Проблема одиночества фокусирует не столько драматические отношения художника с окружающим миром, сколько – с самим собой; 2. Классический поворот темы – бегство от одиночества, жажда быть услышанным – сохраняется, но не преобладает; 3. XX век делает открытие: одиночество – непременное условие творчества; самоуглубление в одиночестве открывает путь к самопознанию; 4. Способность к одиночеству – показатель самоценности личности, условие сохранения ее внутреннего мира; 5. Наиболее поверхностная для XX века версия проблемы одиночества – противопоставление себя миру, людям, декларация эгоистических и индивидуалистических наклонностей; 6. Для некоторых поэтов лишь через одиночество открывается путь к людям.
3
Экзистенциальное мироощущение В. Маяковского
В поэзии и судьбе раннего В. Маяковского проблема одиночества отражает внутренний трагизм душевного состояния; высшая точка драмы:
Я одинок,
как последний
глаз
у идущего
к слепым
человека.
Одиночество Маяковского – своеобразная расплата и за его презрение к отвергаемому миру, за бунтарскую суть собственной натуры, и за максимализм, с которым пришел в этот мир человек и поэт («А вы могли бы?», «Нате!», «Вам», «О разных Маяковских», «Я сам»). Поиск выхода из одиночества сосредоточивает в себе всю страстность его натуры, все внутренние силы, оборачиваясь лермонтовским мотивом стремления к «родной душе» («Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Облако в штанах»). Но этот традиционный Маяковский – поэт социальной интерпретации. Неожиданный он тем, что онтологическое одиночество всегда испытывал не менее остро, чем социальное и политическое.
Предрасположенность Маяковского к экзистенциальному мироощущению заключается в том, что ни один образ, ни одна проблема, ни одна коллизия не существуют у него в единственной плоскости: сами плоскости пересекаются, совмещаются в художественном образе, сообщая необыкновенную многоплановость поэтическому миру, неожиданным образом расширяя и «граня» палитру бытия, делая воспринимаемый мир онтологически объемным и целостным. Здесь и коренится причина того, что Маяковского – разного – читали по-разному однобоко: эпоха восклицания о первом и единственном поэте революции надолго приучила извлекать из сложного контекста его поэзии социальные аспекты, игнорируя все остальные.
В столкновении с миром (городом), в активном вызове ему, в поисках родной души, в добровольной роли мессии, готового стать «языком улицы безъязыкой», просматривается привычный образ
Маяковского-борца, личности социальной. Лирическая стихия здесь просто раскрывает одну из граней разного Маяковского, качественно при том ничего не меняя в образе социального человека. Но гораздо раньше, нежели идея человека социального, в лирику Маяковского входит идея человека родового, который, в том числе, весь из мяса, / человек весь. Разработку и объемность эта концепция получит в поэме «Человек». Образ родового человека изначально запрограммирован не столько на собственное физическое самоощущение, сколько – на со-ощущение, со-чувствие всему живому (и неживому) в мире. Он обречен на со-болезнование миру вещей и людей; уродство мира переживает, как переживал бы собственную ущербность. Он проживает с явлениями их трагическую судьбу и разрушение плоти: Улица провалилась, как нос сифилитика, С неба, изодранного о штыков жала, слезы звезд просеивались, как мука в сите; он «один на один» с ликом «уродца века». Те качества героя Маяковского, которые впоследствии стали восприниматься как показатель социальной и политической активности поэта, истоками своими уходят не в человека социального, а именно в человека физиологического, онтологического.
Но где граница, которая отделяет одиночество социальное от одиночества онтологического? Мир – хаос: в нем одновременно запечатлен и хаос города («Ночь», «Утро», «Адище города»), и «лик» хаоса вселенского, мирового абсурда, «зияющей бездны бытия», распахнувшейся перед поэтом (как близко поэтому солнце, Бог, луна – то «любовница рыжеволосая», то – «какая-то дрянь, похожая на Льва Толстого»). И где грань между «грубым гунном», бросающим вызов «толпе» (ощетинит ножки стоглавая вошь!) и потому одиноким, и беспомощным, маленьким (и он же: мир огромив мощью голоса, иду – красивый двадцатидвухлетний!!), выхарканным чахоточной ночью в грязную руку Пресни? И разве человек – чей-то плевок? А не тот ли это «заброшенный» человек Кьеркегора, Шопенгауэра, Сартра, Камю? У Маяковского все это в одном человеке. Одним сюжетом в герое Маяковского связаны: одинокий человек, заброшенный в нелепый абсурдный мир, и тот, кто в порыве сострадания поднимается над страхом жизни и смерти:
Придите ко мне,
кто рвал молчание,
кто выл
оттого, что петли полдней туги, —
я вам открою
словами,
простыми, как молчание,
наши новые души….
Эти грани образа Маяковского можно перечислять и далее: богоборчество и христианское сострадание как первая ступень выхода из собственной драмы одиночества и непонятости; человек, равный Вселенной, и неповторимый человек в себе. Важно лишь увидеть за разными Маяковскими его человека, который «весь из мяса, человек весь», – революционного и онтологического одновременно. Вся дореволюционная поэзия Маяковского и отражает в той или иной мере порыв, поиск выхода из одиночества – и онтологического, и социального – переживаемых поэтом одинаково остро и болезненно.
Парадокс же в том, что пока есть одиночество, пока оно переживается художником, пока идет борьба с миром и собой за выход из него, есть и талантливый, большой и неповторимый поэт В. Маяковский. Когда же проблема одиночества разрешается и он становится вполне общественным поэтом, то масштаб его как поэта значительно сокращается.
Послереволюционную поэзию Маяковского переполняет тоска и жажда одиночества, которую он скрывает и от самого себя. Эти мотивы – основа трагической поэзии зрелого Маяковского. В натуре Маяковского его обреченность на одиночество оборачивается исступлением чувства, это почти «обуглившееся» чувство титана. И когда Маяковский напишет о себе после 17-го года: наступил на горло собственной песне, то это значит и лишил себя права на одиночество, которое для его натуры было импульсом для поэтического творчества и условием самопознания.