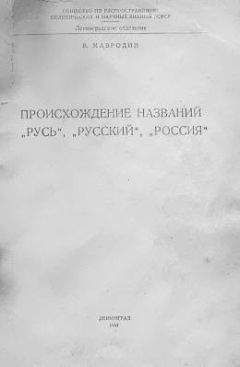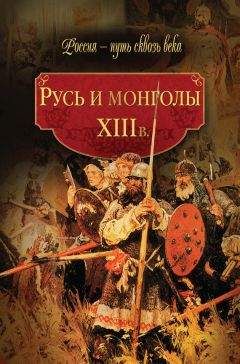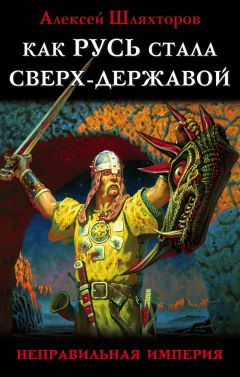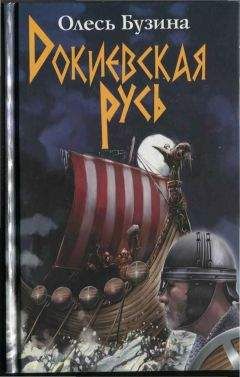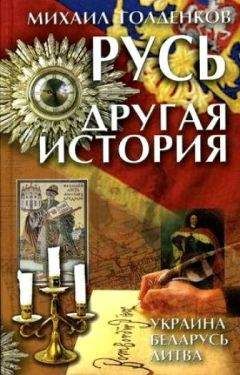Самарий Великовский - В скрещенье лучей. Очерки французской поэзии XIX–XX веков
Разумеется, рабочее орудие культуры – прием – обычно и используют, и воспринимают без того, чтобы всякий раз отчетливо осознавать неявные, доконцептуальные смыслы, которые вызвали его когда-то к жизни и которыми он испод воль начинен. Докапываться до таких смыслов-предпосылок, ускользающих от обыденного рассудка, – дело аналитики, на то она и существует. Не упорствуй она в стараниях вскрыть прячущееся за очевидностями, люди по сей день держались бы мнения, будто Солнце вращается вокруг Земли, а сама Земля – плоская.
Как бы то ни было, во Франции, да и не в одной Франции, именно тот вид подстройки лирического письма к цивилизации XX века, который разрабатывался в кругу Аполлинера, был в конце концов бесспорно предпочтен и надолго возобладал.
Среди шедших непосредственно по аполлинеровским стопам и находился смолоду Поль Элюар.
Я пишу твое имя, Свобода
«…к горизонту всех»
Поль Элюар
Жизнь как путь, каждый очередной отрезок которого являет собой продвижение в поиске, со своими находками и своими потерями, – нет ничего естественнее этого привычного мыслительного ключа к пониманию любого из мастеров культуры всех веков и всех народов. И все же особенно он уместен, решительно необходим применительно к таким не классическим классикам лирики в XX столетии, как Маяковский, Арагон, Незвал, Бехер, Неруда или Элюар. Наряду с разительной свободой письма их роднит сделанный однажды и бесповоротно коренной выбор – поставить свое слово на службу революционному делу. Каждый из них рано или поздно к этому пришел, но именно пришел – пришел издалека и не сразу. Очевидно вместе с тем, хотя нередко и забывается, что подобные подступы вряд ли одолимы без отправной предрасположенности к шагам именно в эту, а не другую сторону.
Чуть ли не каждый раз, когда заводят речь о пути Поля Элюара, где-то по соседству с его именем ложатся, подобно тени, слова, сказанные им о себе в 1947 г.: «От горизонта одиночки к горизонту всех». Но тень есть тень и, в зависимости от угла падения света, почти всегда столь же обманчива, сколь и неотчуждаема: сжимаясь или растягиваясь, она действительные очертания предмета искажает. Когда же она отброшена какой-то его частью, резко выступившей в ущерб всему остальному, их и вовсе бывает трудно опознать. Нечто похожее произошло и в случае с крылатым элюаровским изречением. Сам Элюар подразумевал в нем мучительные месяцы своей биографии, последовавшие за смертью жены, а никак не всю пройденную им дорогу длиною в жизнь. Долголетние искания и в самом деле распахнули перед ним горизонты всех людей. Но утверждать, будто кругозор Элюара раннего замкнут горизонтом одинокого затвор ника, значит допустить неточность, граничащую с упрощением.
Да, в его жизни и писательской судьбе случались тяжелые полосы, когда «одиночество преследует по пятам своей зло бой». Однако он никогда не принадлежал к числу смиренных жертв этого преследователя. «Есть слово, которое всегда меня воодушевляло, – признался он однажды, – сло во, заслышав которое я испытал сильную встряску, великую надежду, самую великую – надежду победить власть разрухи и смерти, тяготеющую над людьми. Слово это – братание». И запало оно в душу Элюару впервые еще тогда, когда ему, солдату, было двадцать с небольшим и он вступал во взрослую жизнь в окопах вместе со своими сверстниками из поколения «потерянных».
Огонь – чтоб жить
Груз прожитого и передуманного за плечами у новобран ца Эжена-Поля Гренделя (1895–1952; позже для подписи на своих книгах он возьмет фамилию бабки по материнской линии – Элюар), получившего повестку через неделю после того, как ему исполнилось 14 декабря 1914 г. девятнадцать, был куда легче походного вещмешка. Беззаботное детство в городке Сен-Дени, где отец служил бухгалтером, пока не завел собственного дела. Переезд с семьей в Париж. Усердные школьные занятия, поиски редких книг в ларьках буки нистов на набережных Сены. Полтора года, проведенные из-за болезни легких в высокогорном швейцарском санатории, и встреча с лечившейся там русской девушкой Еленой Дьяконовой, подругой сестер Цветаевых; в 1917 г., перебравшись в Париж, она станет женой Элюара (а еще десять лет спустя уйдет от него к Сальвадору Дали). Элюар звал ее Галá, и ей посвящены первые пробы его пера. И хотя вскоре он отрекся от двух своих юношеских книжечек, сочтя их слишком ученически неловкими, тем не менее это – пусть робкие, но совершенно непосредственные предвестья того «долгого любовного раздумья», каким виделась ему вся его лирика за сорок лет без малого.
Залечив болезнь, хотя и не вылечившись вполне (слабость легких давала о себе знать на протяжении всей его жизни), Элюар едва успел завершить учебу, как ему пришлось неловкими руками крутить обмотки и кутаться в не по росту сшитую шинель. Солдат нестроевой службы, он был назначен санитаром в госпиталь и четыре военных года про вел в тылу, досадуя на свой недуг, вынуждавший отсиживаться вдали от передовой. Всего на несколько недель в январе-феврале 1917 г. ему удалось добиться отправки с пехотным полком на фронт, откуда он вскоре был отослан назад с острейшим приступом бронхита.
Незадолго до этого испытания себя под обстрелом Элюар сумел отпечатать на гектографе тетрадку своих стихов «Долг». Скупо и просто рассказал он здесь об участи своих вчерашних однокашников, ныне однополчан, оторванных от родного дома и среди слякоти, холода, невзгод уставших надеяться на возврат похищенной у них радости жить, не остерегаясь каждую минуту смерти. К сетованиям одного из заложников «чужой войны» на свое злополучие в рас ширенной книжке 1917 года «Долг и тревога», изготовлен ной уже типографским способом, прибавятся пропитанные едкой горечью мысли фронтовика, побывавшего в окопной мясорубке и больше не склонного послушно принимать навязанный ему долг. Обыденные подробности солдатских трудов и дней складываются у раннего Элюара в развенчивающее трескотню урапатриотов личное свидетельство об исторической трагедии поколения обреченных умирать и убивать, которым однажды сунули в руки ружья и послали копошиться в траншейной грязи во имя того, что их школьные учителя величали «цивилизацией» и что обернулось бра тоубийственным одичанием. Еще вчера они «грелись в зимнюю стужу у приветливого очага», а теперь затерялись среди «печальных земель, где люди безумно устали, устали за радостью гнаться» и где они без передышки «воздвигают дворцы» землянок, укрытий, пулеметных гнезд. И словно заповедь крепко усвоенного этим поколением неписаного окопного устава звучит элюаровский афоризм, в который отлилась премудрость вполне кротовьего землеройства:
Трудись в поту.
Копай нору –
Скелету сгнить дотла во рву.
Нелепица подобного образа жизни – и смерти – мучительна для Элюара прежде всего тем, что поглощенный этими занятиями человек отлучен от приветливой прелести земли и неба. Солдатские дороги, «дороги к слезам и крови», пролегают среди овсов, расцвеченных розовыми нитями клевера, меж долин, залитых золотистыми лучами солнца, где желтые каменоломни – словно плывущие по безбрежной зелени облака. Но путники в сапогах тут чужие: они бредут в походном строю, озабоченные чем-то своим.
Поль Элюар. Рисунок Пабло Пикассо
И шагающий в их рядах Элюар угнетен, раздавлен этой отчужденностью от щедрого покоя, раскинувшегося вокруг: «О, жить не в столь ужасном изгнании под этими нежными небесами!».
Пока у Элюара – и тут он близок другому солдату, Аполлинеру, с которым познакомиться не успел, но чью смерть в ноябре 1918 года оплакал в одном из писем как непоправимую личную утрату, – не встретишь того гневного вызова, какой был брошен тогда же в «Огне» Барбюса от лица ожесточившихся, доведенных до отчаяния «пуалю» виновникам кровавого лихолетья. «Мне было двадцать лет, и я воевал за наших хозяев – они нуждались в юных. Я был до того наивен, что даже не защищался; я получал удары, не помышляя их вернуть», – скажет Элюар много лет спустя, оглядываясь на свою молодость. Но он уже далек и от покорного всепрощения. «Одни ответственны за жизнь. Мы ответственны, – писал он отцу в январе 1916 г. – Другие несут ответственность за смерть, и они должны быть нашими единственными врагами». Летом 1918 года, когда по обе стороны колючей проволоки еще истекали кровью враждующие войска, Элюар выпустил в обход цензуры поистине «пораженческую» листовку со своими «Стихами для мирного времени». Он рисовал здесь возвращение под родной кров изнуренного солдата, который обнимет близких и снова обретет «ненужное» ему недавно лицо – «лицо, чтобы быть любимым, чтобы быть счастливым». Помыслы Элюара о тихом непритязательном счастье в кругу заждавшихся домашних казались пока несбыточны, но тем отчетливее слышался вложенный в них призыв. В противовес продолжавшим свирепствовать страстям разрушения и убийства Элюар славил заповеди иной мудрости – труда работника, сменившего винтовку и лопату для рытья братских могил на рубанок, плуг, перо: