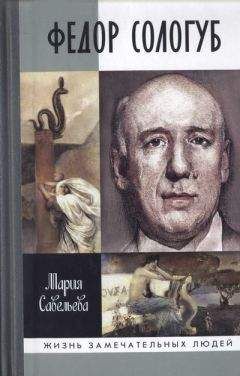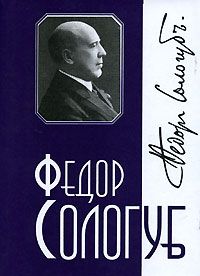Надежда Лекомцева - Взаимосвязи отечественной и зарубежной литератур в школьном курсе
В последекабристскую эпоху, характеризующуюся переломом в политических взглядах Пушкина, а в области поэтического творчества сказавшуюся в переоценке Байрона через преодоление байронического индивидуализма и субъективизма «южных поэм» в объективных жанрах эпоса, драмы и романа, имена Шекспира, Вальтера Скотта и Гёте как поэтов «объективных» вытесняют в высказываниях Пушкина имя Байрона. Упоминания о Гёте в критических статьях Пушкина появляются довольно часто после 1827 года.
Последние годы жизни Гёте совпали со временем расцвета творчества Пушкина. Гёте не читал по-русски и потому не мог познакомиться с произведениями Пушкина непосредственно, но это не мешало объективно существовавшей между ними близости. Материалистическое мировоззрение, нетерпимость к философскому мистицизму и религиозной идеологии, реалистическое отношение к действительности и ее художественному отображению – все это роднило двух титанов мировой литературы.
На сходство (но и различие) их обратил внимание уже В.Г. Белинский: «Если с кем из великих европейских поэтов Пушкин имеет некоторое сходство, так более всего с Гёте, и он еще более, нежели Гёте, может действовать на развитие и образование чувства. Это, с одной стороны, его преимущество перед Гёте и доказательство, что он больше, нежели Гёте, верен художественному элементу, а с другой стороны, в этом же самом неизмеримое превосходство Гёте перед Пушкиным: ибо Гёте – весь мысль, и он не просто изображал природу, а заставлял ее раскрывать перед ним ее заветные и сокровенные тайны. Отсюда явилось у Гёте его пантеистическое созерцание природы и —
Была ему звездная книга ясна,
И с ним говорила морская волна.
Для Гёте природа была раскрытая книга идей; для Пушкина она была полная невыразимого, но безмолвного очарования живая картина»[140].
Гёте был известен изданный в Лондоне двухтомник «Образцы творчества русских поэтов с вводными замечаниями и биографическими заметками» (1821–1823). В нем были отрывки из произведений Жуковского, но, к сожалению, ни одного из Пушкина. Тем не менее и по немногим образцам Гёте составил себе высокое мнение о русской поэзии и в одном из писем заметил об антологии, что она позволяет сделать заключение о «высокой эстетической культуре» русского народа[141].
В 1815–1832 годах Гёте в Веймаре посетило множество русских интеллигентов, в том числе Кюхельбекер и Жуковский. Трудно представить, что они могли не поделиться с ним мыслями о величайшем из поэтов России. В середине 20-х годов «Московский вестник» Погодина (кстати, также встречавшегося с Гёте в Веймаре) опубликовал перевод эпизода из второй части «Фауста», сопровождаемый несколькими вводными замечаниями. Проживавший в России Борхардт, постоянный корреспондент Гёте, сообщил об этом автору. Поэт ответил письмом, выражая радость по поводу того, что «на отдаленном востоке расцветают столь тонкие и глубокие чувства, так что и в западных странах, развивающихся целые тысячелетия, вряд ли найдется что-либо более привлекательное и милое»[142].
Одновременно Гёте сообщал, что со слов Жуковского подробно осведомлен об отношении русского читателя к его поэзии. Письмо Гёте было передано Борхардтом редакции «Московского вестника», который и напечатал его. В связи с опубликованием послания Гёте Пушкин пишет Погодину 1 июня 1828 года слова, которые показывают, сколь значимы были для Пушкина суждения и оценки Гёте: «Надобно, чтобы наш журнал издавался и на следующий год. Он, конечно, буде сказано между нами, первый, единственный журнал на святой Руси. Должно терпением, добросовестностью, благородством и особенно настойчивостью оправдать ожидания истинных друзей словесности и одобрение великого Гёте… Вы прекрасно сделали, что напечатали письмо нашего Германского патриарха».
Близость, родство творческих устремлений Гёте и Пушкина являют собой пример контактного взаимодействия литератур, когда современники знакомятся с произведениями друг друга или хотя бы с общим направлением литературной деятельности, но в то же время они свидетельствуют и о типологическом сходстве творчества поэтов разных национальных культур, явившемся следствием общности исторической социально-культурной ситуации[143].
«Конечно, дело не в том, чтобы установить какое-либо непосредственное «влияние» Гёте на Пушкина, – отмечают немецкие литературоведы. – Как поэзия Гёте развилась в соответствии с условиями немецкой жизни, так и поэзия Пушкина выросла из условий русской действительности. Далеко идущее сходство творчества Пушкина и Гёте было, как совершенно справедливо говорит Мариэтта Шагинян в своей книге о Гёте, следствием одних и тех же обстоятельств: перед обоими поэтами стояла и та же историческая задача – заложить основу и положить начало развитию национальной литературы своего народа. И если Пушкин, друг декабристов, был выше Гёте в политическом отношении, то мировоззрение обоих поэтов развивалось в одном направлении: в сторону разрыва со всякими религиозными убеждениями, перехода к материализму и атеизму. Сходство мировоззрений обусловило и одинаковую для них обоих ориентацию на реальную действительность и реалистичность их литературного творчества. Отсюда проистекал и интерес Пушкина к поэзии Гёте, в особенности к его крупнейшему литературному произведению, к «Фаусту»[144].
Интерес Гёте к русской литературе, статьи о литературе сербской (в частности, о народных песнях), исследования чешской литературы привлекли внимание немецкого народа к национальным литературам славян. Мысли Гёте о русской литературе помогли и первому переводчику Пушкина в Германии, пламенному пропагандисту его творчества, писателю Карлу Фарнгагену фон Энзе, тому, кого Гейне после кончины великого веймарца назвал «наместником Гёте на земле».
Поборник реализма в немецкой литературе, Фарнгаген использовал в борьбе за его упрочение и творчество Пушкина. В берлинском «Ежегоднике научной критики» за 1838 год Фарнгаген опубликовал подробнейшую рецензию на три первых тома сочинений Пушкина, вышедших в Петербурге. Предметом восхищенного внимания автора стали «Евгений Онегин», «Борис Годунов», «Полтава» и множество стихотворений Пушкина.
Указывая на то, что русский язык может «равняться с самыми развитыми языками нынешней Европы», Фарнгаген писал: «Когда на таком языке начинают говорить поэты, можно ожидать великих явлений… И вот с недавнего времени русская поэзия пробудилась к бурной жизни, и ее чистейшим и наиболее ярким выразителем является Пушкин. Как ни многочисленны, как ни разнообразны его предшественники и последователи – Грибоедов, Баратынский, Дельвиг, Языков, Венедиктов, князья Вяземский и Одоевский, Шевырев и многие другие, – он превосходит их всех, он их глава. Он выражает всю полноту жизни своего времени и поэтому национален в высшем смысле слова». Татьяна Ларина воспринимается критиком как «верное зеркало русской жизни», «выражение мужественной, вольнолюбивой, непокоренной и непокоримой души».
Интерес к творчеству Гёте у Пушкина возник после 1825 года, и особенным образом он проявился по отношению к «Фаусту». В 1822–1825 годах поэт создает ряд стихотворных набросков к теме «Фауст». Образ Фауста возникает в плане окончания «Сцен из рыцарских времен». Первый пролог к «Фаусту» (на земле) – разговор между директором театра, поэтом и шутом, – возможно, подсказал и «Разговор поэта с книгопродавцем», предпосланный Пушкиным первой главе «Онегина». «Подобное композиционное оформление, как бы примеряющее новое произведение к «Фаусту», само по себе говорило о масштабе замысла, теснившегося в творческом сознании Пушкина и настойчиво требовавшего своего воплощения, свидетельствовало о грандиозности предпринятого им литературного подвига»[145].
По свидетельству А.О. Смирновой, Пушкин в разговоре с Жуковским заметил однажды: «Фауст» стоит совсем особо. Это последнее слово немецкой литературы, это особый мир, как «Божественная комедия», это – в изящной форме альфа и омега человеческой мысли со времен христианства, это целый мир, как произведения Шекспира»[146].
Наконец, поэтической данью гению Гёте и дальнейшим развитием «вечного образа» в последекабристскую пору, когда какие-то грани фаустовского образа отобразили новые черты российской и общеевропейской действительности, стала «Сцена из «Фауста».
В первом издании 1826 года «Сцена из «Фауста» Пушкиным была названа «Новая сцена между Фаустом и Мефистофелем», что и само по себе как бы подтверждает Гётевское представление о коллизии Фауст – Мефистофель и вместе с тем дает развитие и дополнение характеров великой трагедии («новая» сцена). Естественно возникают вопросы, в какой мере «Фауст» Гёте творчески осваивается Пушкиным, противостоит ли герой пушкинской «Сцены» Гётевскому характером отношения к жизни, волевыми устремлениями и, если это так, разделяет ли Пушкин умонастроения героя. Разобравшись в этом, мы поможем учащимся понять конкретно-историческую обусловленность и самобытность созданий обоих поэтических гениев, еще раз убедиться, что обращение русских писателей к инолитературным образцам вовсе не есть просто подражание.