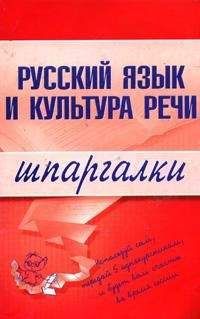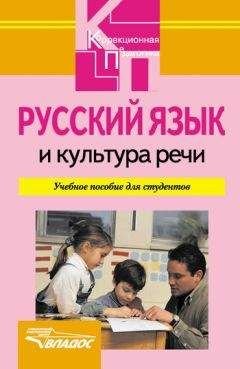Александр Гуревич - «Свободная стихия». Статьи о творчестве Пушкина
Подхватив эту тенденцию пушкинского творчества (и русского романтизма вообще), Толстой решительно углубил и развил ее, довел, можно сказать, до последнего предела. Сравнительная оценка героя-индивидуалиста и человека природы в его повести полярно противоположна байроновской. Душа «естественного человека» выступает в ней как воплощение жизненной нормы, а сознание героя, принадлежащего миру культуры, как духовная аномалия и нравственная болезнь, требующая исцеления. Самый процесс духовной эволюции личности, происходящие с ней внутренние перемены, ставятся в центр повествования и получают углубленную психологическую разработку. Именно глубинная аналитичность толстовской повести позволяет рассматривать ее как произведение в основе своей реалистическое.
Толстой раскрывает особую сложность переживаемого героем процесса: трудность возвращения изуродованного цивилизацией человека под влиянием новой для него среды к своему естеству, к нормальному человеческому существованию. Здесь-то и начинает звучать во всю мощь собственно толстовская тема – тема нравственного обновления личности, понятая как восстановление прошлого, как возврат к изначальным, стихийным первоосновам жизни. «Толстой, кажется, ищет в человеке чего угодно, только не нового, – верно замечает С. Г. Бочаров, – он, напротив, апеллирует к первозданному, вечному, естественному, что лежит на дне души каждого, заваленное и заслоненное поверхностными наслоениями, о чем люди забыли, но о чем каждый может вдруг “вспомнить” в критическую минуту своей жизни…» [9. С. 230]
Так характерная для романтизма сюжетная ситуация (человек перед лицом природы, европеец среди нецивилизованных народов) насыщается совершенно своеобразным, собственно толстовским содержанием. (Впрочем, и эти толстовские представления генетически восходят к традициям русского романтизма, испытавшего воздействие просветительских идей. Как показал Ю. М. Лотман, Лермонтов – автор «Мцыри» – убежден: «достаточно снять с человека социальные напластования – и обнажится “детская”, то есть прекрасная природа человека» [10. С. 42].)
Трудность процесса нравственного обновления, столь пристально исследуемого Толстым, обусловлена прежде всего сложной душевной жизнью героя (с авторской точки зрения – предельной искаженностью культурного сознания, удаленного от естественной нормы). С другой же стороны, сложным, по меньшей мере двузначным, становится у Толстого само понятие естественности.
Действительно, в начертанной писателем программе духовного возрождения личности перед ней открывается возможность подняться на две ступени нравственного совершенства, пережить как бы две последовательные стадии.
На первой из них задача состоит в том, чтобы слиться с величественной, дикой природой и словно бы составляющей одно целое с ней патриархальной общиной, без остатка раствориться в этой «роевой» жизни. Пользовавшийся в Москве безграничной свободой, Оленин лишь здесь, в казачьей станице, понял: свобода эта ложная, мнимая; истинная же свобода состоит в том, чтобы сбросить с себя путы цивилизации. «Новое для него чувство свободы от всего прошедшего» зародилось у Оленина уже по дороге на Кавказ: «Чем грубее был народ, чем меньше было признаков цивилизации, тем свободнее он чувствовал себя» [1. Т. 6. С. 12–13]. А после недолгого пребывания в станице, за время которого «старая жизнь была стерта», на душе у него становится «свежо и ясно» [1. Т. 6. С. 13]. Наконец, следует упоминавшийся уже кульминационный эпизод (Оленин во время охоты в лесу), когда в сознании героя свершается решающий перелом.
Именно в этот момент с особой силой ощутил он свое единство с окружающим миром, испытал «такое странное чувство беспричинного счастья и любви ко всему». Мысль о том, «что вот я, Дмитрий Оленин, такое особенное от всех существо», представляется ему теперь странной, даже нелепой. Кажется, он имеет на нее право не более, чем любой из мириадов комаров, которыми кишит лес: «И ему ясно стало, что он нисколько не русский дворянин, член московского общества, друг и родня того-то и тогото, а просто такой же комар или такой же фазан или олень, как те, которые живут теперь вокруг него» [1. Т. 6. С. 76–77]. Комментируя приведенную сцену, И. А. Бунин проницательно заметил: «Это стремление к потере “особенности” и тайная радость потери ее – основная толстовская черта» [11. С. 31].
Но Оленин не просто переживает радость потери «особенности» и растворение в окружающей жизни – прямо по формуле Тютчева: «Дай вкусить уничтоженья, с миром дремлющим смешай!» Нравственную принципиальность и идеологическую отчетливость его ощущениям придают беседы с дядей Ерошкой – живым воплощением стихийно-языческого миросозерцания.
Какая-то удивительная, истовая любовь ко всему сущему отличает дядю Ерошку: к зверю, птице, бабочке, наконец, к другим людям вне зависимости от их веры, национальности, общественного положения. «Я бывало со всеми кунак, – рассказывает он Оленину, – татарин – татарин, армяшка – армяшка; солдат – солдат, офицер – офицер. Мне все равно, только бы пьяница был» [1. Т. 6. С. 55].
В глазах Ерошки человек – существо прежде всего природное. Он и должен быть свободен, как зверь или птица. «Хоть с зверя пример возьми, – убеждает он своего собеседника. – Он и в татарском камыше, и в нашем живет. Куда придет, там и дом. Что Бог дал, то и лопает» [1. Т. 6. С. 56]. И наоборот: свинья, например, для него не менее значительное и равноправное существо, чем человек: «Да и то сказать: ты ее убить хочешь, а она по лесу живая гулять хочет. У тебя такой закон, а у нее такой закон. Она свинья, а все она не хуже тебя; такая же тварь Божия» [1. Т. 6. С. 58].
Потому-то любые природные стремления кажутся дяде Ерошке нормальными, законными и прекрасными («Все бог сделал на радость человеку. Ни в чем греха нет»). Всякие же морально-религиозные запреты и ограничения решительно отвергаются им как вздорная, ненужная выдумка «уставщиков» – «фальчь» [1. Т. 6. С. 56].
Вот эта проповедь природности, стихийности, свободное подчинение непреложным, вечным законам бытия и сближают отчасти Ерошку со Старым цыганом из пушкинской поэмы. Но Старый цыган являлся в то же время олицетворением наивно-патриархальной морали и личной добродетели, средоточием совести цыганского табора. Недаром в финале поэмы он от лица всей общины произносит суровый приговор убийце. Проповедуя и оправдывая свободу любви, он тем не менее остается верен своей Мариуле.
Ерошка же живет, не зная каких-либо моральных преград, запретов и ограничений, не ведая различия между добродетелью и пороком. Он ни в чем не видит греха, не боится посмертной кары (умрешь – «трава вырастет на могилке, вот и все» – [1. Т. 6. С. 56]). Он не считает чем-то зазорным пьянство, воровство, прелюбодеяние, даже убийство. Известный в округе как первый пьяница и вор, он только гордится этим, называет себя джигитом и удальцом.
Другое дело, что Ерошка – человек сердечный, жалостливый. Представитель старого поколения, он в большей мере, нежели молодежь, сохранил естественную, природную доброту. Но это именно личные качества, а не моральные принципы. Скажем, сожаление об убитом Лукашкой чеченце ни в коем случае не ведет к осуждению его поступка. Так и охотник может жалеть подстреленного зверя, но это не заставит его бросить свое ремесло.
Подобно речам Старого цыгана, суждения Ерошки могут быть названы «гласом народа». Он лишь яснее выражает, отчетливее формулирует те жизненные правила и моральные нормы, которыми безотчетно и полусознательно руководствуются жители казачьей станицы. Примечательно, например, что ни Лукашка, ни его товарищи не испытывают ни малейшего сожаления или раскаяния после убийства чеченца (как, впрочем, и никаких военно-патриотических чувств). Убитый горец для них просто добыча, такая же, как олень или кабан. Следовательно, благодетельная свобода казаков от цивилизации означает в то же время и неприемлемую для Толстого свободу от христианской религии и христианской морали.
Комментируя (в письме А. А. Толстой) свой рассказ «Три смерти», писатель, в частности, разъяснял: «Мужик умирает спокойно, именно потому, что он не християнин. Его религия другая, хотя он по обычаю и исполнял христианские обряды; его религия – природа, с которой он жил. Он сам рубил деревья, сеял рожь и косил ее, убивал баранов, и рожались у него бараны, и дети рожались, и старики умирали, и он знает твердо этот закон, от которого он никогда не отворачивался, как барыня, и прямо, просто смотрел ему в глаза» [1. Т. 60. С. 265]. Точно так же «нехристианами», лишь «по обычаю» свершающими религиозные обряды, были в глазах Толстого и казаки вместе с их «идеологом» дядей Ерошкой.
Между тем для самого писателя высшей формой естественности была, конечно, естественность нравственного закона – неуклонное стремление делать добро ближнему, прирожденное, думал он, каждому человеку. Служение добру, подвиг самоотречения и самопожертвования составляют основу и самую суть нравственного идеала Толстого. И идеал этот, кажется, прямо противоположен жизненным установкам обитателей казачьей станицы.