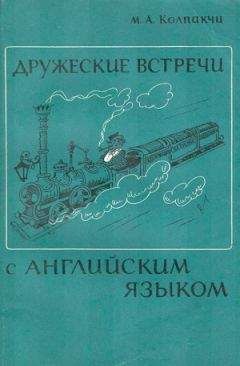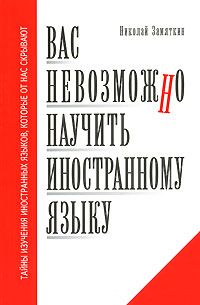Ирина Роднянская - Движение литературы. Том II
«Я оторвался от своих корней», – обронил, раздумывая о том же, Чухонцев. Соблазнительно ухватиться за эту простую версию как за ключ к нашей «новой» поэзии, как за объяснение ее беспокойной зыбкости. Ключ, однако, окажется ложным; «новое» поэтическое сознание вдумчиво восходит по лестнице: родители, родичи, родина, природа, соприродность мирозданию, – отдавая дань каждой ступени и счастливо избегая беспочвенности. Тому свидетельство хотя бы стихи Чухонцева о подмосковном «огненном» лете 1972 года, когда горели леса:
… А со степей казахских и каспийских
шел зной, и было небо как в огне.
Душа болела о родных и близких,
о матери я думал, о жене.
Нет, не любовью, видно, а бедою
выстрадываем мы свое родство,
а уж потом любовью, но другою,
не сознающей края своего.
Да что об этом! жизнью и корнями
мы так срослись со всем, что есть кругом,
что, кажется, и почва под ногами —
мы сами, только в образе другом.
У Чухонцева всегда высок удельный вес каждого завершенного стихотворения, достигнута вычлененность его из сплошного потока речи. Густота и плотность сочетаются здесь с внятностью, художественная идея, выращенная на большой глубине, проходит особо придирчивую духовную обработку.
Быть может, в этой, не чуждой любомудрия, лирике[3] наиболее ощутима циркуляция токов между пейзажем, личным настроением и общественно-историческим воспоминанием, как бы единое их поле, улавливаемое «космическим чувством» поэта. Он постоянно чует рядом с собой, в пустоте или бездне мирозданья (но в тесной близости к быту), – еще чье-то непостижимое присутствие, понимаемое то как отдельная «мысль» природы, то как знак из грядущего дня, то как голос и дуновение тех, кто прежде населял эту землю:
И в кадке с дождевой водой
дрожала ржавою звездой
живая бездна мирозданья.
Не я, не я, но кто другой,
склонясь над млечною грядой,
оставил здесь свое дыханье?
(Отмечу совпадение у Шкляревского: «Отчего душе моей сродни / пасмурные дни? / Отчего люблю песок текучий / с темною полоской у воды, / запах торфа, грозовые тучи, / в дюнах цапли тонкие следы… / Мокрый флаг над тихим детским домом, / сладкий дым, гречишные поля. / Там, над ними, в холоде бездонном / бродит мысль, живая и ничья…» Тут уловлены как бы одни и те же позывные.)
Уже ясно, что наши поэты не смущаются печалью будто беспричинной, разлитой в воздухе. У каждого своя тайна грусти и цвет ее: у Т. Глушковой – эстетизированная стойкость как ответ на судьбу («… не сердца – только судьбы разбиты!»), у Шкляревского – смутные самообвинения перед лицом отчего края и сокращающейся жизни. Лирику Чухонцева назвать грустной было бы слишком неточно (разлет чувств, впечатлений, поэтических предметов в ней очень широк), но именно у него грусть или тоска возводятся в степень духовной жажды. Есть и знакомые уже мотивы: память о детстве как о дорогой утрате, неисполнимое желание насмотреться на свое «деревянное отечество», на свой Посад прежними, мальчишескими глазами – все то, что трепещет в вопросах: «Где сиреневый вечер? Где радость надежды? Где козья погудка?» – и итожится двустишием:
Во сне я мимо школы проходил
и, выдержать не в силах, разрыдался.
Но грустная память, скользящая «бывшим маршрутом», у Чухонцева не главное; у него вообще больше опоры на настоящий свой день и возраст. Изначальное томительное чувство невечности жизни предстает здесь обнаженным, не подпертое житейскими мотивировками, не объяснимое даже движением лет.
В «Воробьиной ночи», в стихах о любви и страсти, высоко взметается пламя, захватывает дух, но мгновение спустя прогорает, и пепел лучше не ворошить. А огонь, пока он есть, – раздуть, пусть истощится побыстрее.
Еще темны леса, еще тенисты кроны,
еще не подступил октябрь к календарю,
но если красен клен, а лес стоит зеленый,
– Гори, лесной огонь! – я говорю.
………………………………
… Гори, лесной огонь, лети на все четыре
и падай на спаленные крыла!
И вот уж пожар стих, исчерпал себя – «и поймешь в невеселый час, / что на осень нашлась проруха: / просвистелась она – и нас / оглушила на оба уха. / Оголила сады насквозь / и дала разглядеть сквозь слезы, / как летят, разлетаясь врозь, / лист осины и лист березы…». Это последнее стихотворение (одно из лучших) начинается с характерно унылой чеховской картинки: «В нашем городе тишь да гладь, / листья падают на репейник, / в оголенном окне видать, / как неслышно пыхтит кофейник. / Ходят ходики, не спеша / поворачиваясь на гире, / и, томясь тишиной, душа / глохнет в провинциальном мире». Но не столько тут укор провинции, сколько вздох, адресованный, так сказать, мировому порядку вещей с его «просвистевшимися» осенями; бытовое бросает космические отсветы.
У Чухонцева рано проявилась потребность переводить точную житейскую зарисовку на рельсы собственного чувства, поворачивать ее лирической и вселенской стороной. Вот, к примеру, совсем простое, хотя и крепко сбитое стихотворение 1961 года об уборке картошки в провинциальном городке: «… Весь город валит валом на поля, / в руках мешок, а на плече лопата… Он лупит завидущие глаза. / Он тянется своей большою ложкой. / Он, может быть, и верит в чудеса, / но прежде запасается картошкой». Эта собственноручно убранная картошка «прекрасна, как сама земля», – и вдруг неожиданный финал: «Отчего ж тогда не рада / твоя душа? Какая ей досада / на этот день в начале сентября?» Закончено не только не по правилам «благополучного» сочинения, но и не по тем, которые установил в своих стихотворных новеллах Евтушенко, в то давнишнее время уже отвоевавший право утверждать: «И всюду жизнь была собой, и всюду люди жили». Чухонцев, выступив несколько позже евтушенковского поколения (каких-нибудь пять лет разницы, а какой разрыв!), с самого начала без колебаний и без вызова впускает в стихи будничную «жизнь как жизнь», но сразу же стремится разомкнуть ее в вечность.
Потом то же необъяснимо «досадное» чувство не раз прозвучит в лирике Чухонцева как призвук, как нота разлада – наверное, между таинственным совершенством жизни и ее мгновенностью. В тихие миги природы во время сосредоточенных пауз межсезонья виднее хрупкость живого, больнее сердцу, не готовому с этим примириться. Весной —
Река темнеет в белых берегах.
Пронесся ледоход неторопливо.
И тишина зыбучая в лугах
стоит недели за две до разлива.
Я что-то потерял. Но что и где?
…………………………………
И колесо колеблется в воде.
И осенью —
Так дышится легко, так далеко глядится,
что, кажется, вот-вот напишется страница.
О чем? Поди скажи! О том, как безутешно
повернута на юг открытая скворешня?
………………………………………………..
Что скажешь? Как поймешь? Возьмешь ли грех на душу
нарушить тишину? И словом не нарушу!
Среди стихотворений о загадочной поднебесной тишине пронзительно-печальным кажется как раз самое летнее и радостное: «Еще помидорной рассаде / большие нужны костыли, / и щели в искрящей ограде / вьюном еще не заросли; / еще предзакатные краски / легки, как однажды в году, / и пух одуванчиков майских / не тонет в июньском пруду. / Но так сумасшедше прекрасна / недолгая эта пора / и небо пустое так ясно / с вечерней зари до утра, / что, кажется, мельком, случайно / чего ни коснется рука – / и нет, и останется тайна / на пальцах, как тальк с мотылька. / О, лучше не трогай, не трогай…» Благоговение и сожаление смешались воедино. Почти укладываясь в традиционные принципы пейзажной лирики или лирики «природы и души» (с ее старинным психологическим параллелизмом), эти стихи неуловимо от той и от другой отличаются: живущее и чувствующее в них «я» в первую голову озабочено не собой, не своим смертным уделом («… оглянусь на пустырь мирозданья, подымусь над своей же тщетой…»). А тайно озабочено уделом весеннего, летнего, осеннего дня, судьбой его ускользающей красоты.
Пейзажем ли назвать такую вот сложную и парадоксальную композицию: «Когда верблюд пролез / в игольное ушко – / перебродил прогресс, / и зло в добро ушло, / и разомкнулся круг / истории Земли, / и свет из первых рук / явил дела свои. / Был бесконечный день, / повернутый к теплу, / и влажная сирень / стучала по стеклу. / Был бесконечный час, / пронзительный как стих, / и что-то зрело в нас, / что выше нас самих. / Не слышимый на слух, / не видимый на глаз, / бродил единый дух, / преображавший нас. / Он зябликом в лесу / свистел на сто ладов, / да так, что на весу / сорваться был готов. / И тонкий-тонкий звук / терялся вдалеке, / и я – как все вокруг – / висел на волоске». Без начальных четверостиший стихотворение могло бы напомнить пастернаковскую «молитвенность» перед чудом жизни («Ты спросишь, кто велит, / Чтоб август был велик, / Кому ничто не мелко…»), но первые две строфы превращают цветущий день в цель человеческой истории, переносят его в благой финал, где прекрасное будет бесконечно длиться и то, что сегодня дано на миг, обретет права вечности.