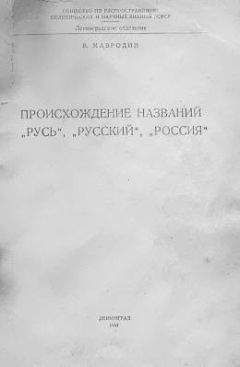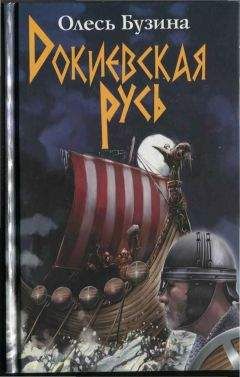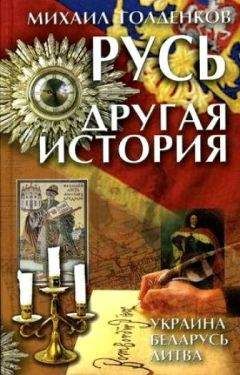Самарий Великовский - В скрещенье лучей. Очерки французской поэзии XIX–XX веков
В причудливых сгустках оплотнившегося вымысла «Озарений» нет отсылок ни к однажды случившемуся, ни к вызвавшему их переживанию. Рембо охотно соглашался, что он «один владеет разгадкой сих диковинных шествий» («Парад»). И советовал ее не доискиваться, а бесхитростно довериться каждому «ясновидческому озарению», принять их как самозаконную данность.
Однако умонастроение, которым овеяно большинство этих зарисовок пригрезившегося, все-таки улавливается. Оно – в запальчиво-горделивом торжестве всеведущего, вездесущего и всемогущего хозяина-«теурга» мировой жизни, который волен лепить ее по собственному хотению, даже произволу, она же бесконечно податлива на запросы своего повелителя. Подчас это высказано прямо: «Я созерцаю, как спадают покровы со всех тайн: религий и природы, смерти, рождения, грядущего, минувшего, космогонии, самого небытия»; «Я – изобретатель намного достойнейший, чем любой мой предшественник; музыкант, сумевший подобрать ключ к любви» («Жизни»). В других случаях это скорее под сказано: «От колокольни к колокольне я протянул канаты, гирлянды – от окна к окну, золотую цепь – от звезды к звезде, и я пляшу» («Фразы»). Но и тогда, когда Рембо вроде бы умалчивает о своих восторгах «победителя судьбы», они внедрены в самую ткань его счастливых наваждений уже тем, что сковывающие нас естественные законы тут отменяются, как угодно переиначиваются. Здесь словно сбылось предсказание Иоанна Богослова о блаженных временах, «когда времени больше не будет»: совпали мимолетное и вечность, стрелки часов замерли на солнечном полудне, твердые тела текут, а туманы и тени каменеют, земля и небеса меняются местами, любые превращения возможны. Потому-то «в лесу… есть собор, устремленный ко дну, и озеро, взмывшее ввысь», а «в недрах земных… встречаются кометы с лунами, моря со сказками» («Детство»). Да и в самом письме у Рембо порывистые повелительные возгласы перемежают чреду эллиптично кратких назывных оборотов, которые стыкуются друг с другом впрямую, без объясняющих прокладок, точно внушая, что воля ума, соединившего все эти разномастные крупицы, – совершенно достаточное оправдание их встречи.
О разум нетленный и бесконечность вселенной!
Тело его! Вожделенное освобожденье, волна благодати, слитая с новым неистовством!
Явленье его, явленье его! Страдальцы, простертые ниц, встают у него на пути.
Его сиянье! Исчезновенье гула страданий и скорби в музыке более мощной.
Поступь его! Шествие неисчислимое древних нашествий.
Он и мы! Гордость, куда благодатней милосердия утраченного.
О мир! О светлая песнь новых бед!
Рембо в «Озарениях» возвещает пришествие повинующейся ему нови и как бы расколдовывает ее своим вообра жением, жаждущим засвидетельствовать безраздельную власть свободно творящего духа над косной плотью вещей.
Мечты о таком всемогуществе питал во Франции еще Нерваль: «Я не прошу у Бога менять что-нибудь в событиях, но изменить меня относительно вещей: даровать мне способность сотворить вселенную, которой бы я сам распоряжался, власть повелевать моей вечной грезой вместо того, чтобы ее претерпевать. И тогда я буду поистине богом» («Парадоксы и истина», 1844). Рембо первым – хотя далеко не последним – сделал эту установку краеугольной не просто для своих воззрений, но и для самой своей «алхимической» поэтики. Сложность – и причина двусмыслицы взаимоисключающих подчас заветов, черпаемых у него, – состоит, однако, в том, что он же одним из первых этот принцип и развенчал.
Уже в самих «Озарениях» мелькают тревожные догадки о каверзном подвохе, таящемся в соперничестве колдовских чар грезы с действительным распорядком вещей: о подмене искомой переделки жизни перестройкой собственного жизневиденья, ничего по существу не обновляющего, зато стократ усугубляющего разрыв между «похитителем огня» и обычными смертными, чьему благу он как будто собирался послужить. Оттого-то за «Озарениями» последовала (по другим, довольно веским предположениям – работу над ними перемежала) лихорадочная до надсадности расправа надо всем, чему раньше Рембо поклонялся.
Исповедальный самоотчет о хрупком блаженстве охоты за миражами и той муке, на какую он себя обрек, когда признал «священным расстройство разума», обратив свой душевный раздрызг в родник горячечного вдохновения, Рембо назвал без всяких недомолвок – «Пора в аду». Он поведал там начистоту «историю одного из безумств» – свою «веру в любое волшебство» и пробы «писать безмолвие ночи, несказанное, головокружения», «приучить себя к простейшим галлюцинациям», дабы подкрепить ими «магические софизмы». В конце концов «мое здоровье оказалось под угрозой. Ужас подступал отовсюду… Я был проклят радугой. Счастье сделалось для меня злым роком, угрызением совести, точащим меня червем» («Алхимия слова»). Опустившись на самое дно своего умопомрачения, чтобы все в себе понять и очиститься, Рембо преисполнен решимости стряхнуть мóрок, отправиться вскоре «через реки и горы славить новый труд и новую мудрость» («Утро»).
Как только Рембо выяснил для себя, что лирическое чародейство – не чудодейство, не может удовлетворить его донельзя завышенных, «теургических» домогательств, а на меньшее он не был согласен, он охладел и к писательскому делу, к которому был предназначен самой своей исключи тельной одаренностью. И вместо сочинительства принялся за труд житейски насущный, нечто вроде «возделки своего сада» – исход, который под занавес книги «Пора в аду» глухо предсказан: «Я! я – возомнивший себя магом и ангелом, избавленным ото всякой морали, – я спустился на землю, снедаемый жаждой отыскать на ней мой долг – и заключить в объятья шершавую действительность. Пахарь!» («Прощание»). Находки в приемах «овнешненной» передачи приливов и отливов мятежной, смятенной внутренней жизни, сделанные Рембо-«ясновидцем» в погоне за своей недостижимой целью, для него самого были обесценены вместе с ее крушением и выкинуты в сердцах из памяти.
Потомки предпочли не прислушаться к повзрослевшему и ожесточившемуся Рембо, распорядившись по-своему – с бережностью почти благоговейной – обломками дерзания этого отрока Икара, принявшего себя однажды за Прометея. Вслед за первым, аполлинеровским поколением «авангарда» все мастера неклассической лирики во Франции будут повторять клятвы верности «ясновидчески-теургическим» принципам Рембо[59]. Две трети века спустя Элюар со всем возможным усилением воздаст хвалы «воображению, изжившему в себе инстинкт подражания»: «Поэзия ничему не подражает, она не воспроизводит ни линий, ни поверхностей, ни объемов, ни лиц, ни пейзажей, ни ситуаций, ни катаклизмов, ни чувств, ни памятников, ни пламени, ни дыма, ни сердца, ни ума, ни ужасов, ни благодати, ни огорчений, ни красоты… Она изобретает, вечно она творит заново».
Одну из самых для себя подходящих поисково-испытательных площадок такое бесконечно возобновляемое изобретательство открыло в том оксюморонном жанровом образовании, каким утвердилось в последней трети XIX века французское стихотворение в прозе. При переводе на русский словосочетание poème en prose надо бы брать в кавычки: у французов стиха-то здесь нет и в помине. Нет ни повторяющейся одноразмерной плавности, ни хотя бы легкой, время от времени дающей о себе знать версетной ритмизации, ни окказиональной рифмизации. Наоборот, стихотворение в прозе зачастую противоположность тому, что именуется «поэтической прозой» за свое более или менее очевидное метрически упорядоченное благозвучие. Уже в «Парижской хандре» Бодлера, где эта внестиховая разновидность лирики сложилась, хотя и сохранив пока остаточные повествовательно-описательные приметы, вполне осмысленной целью работы со словом была «музыкальность без размера и ритма, достаточно гибкая и вместе с тем неровная, чтобы примениться к лирическим движениям души, волнистым извивам мечтаний, порывистым прыжкам сознания». Заведомый отказ от всякой, даже подспудной, просодической канвы исходен и для «Озарений» Рембо, в которых французское стихотворение в прозе окончательно обрело чистоту собственно лирического смыслоизлучения, не нуждающегося ни в какой посторонней поддержке в виде рассказа или зарисовки. С тех пор, породив в словесной культуре Франции XX в. мощно разветвленную отрасль, стихотворчество в прозе всякий раз, в каждом своем образце, являет собой вызов просодическому бытованию лирики, мятеж против стихосложения как обязательного для классики способа организации лирического высказывания – признака его несомненной «поэтичности». В каждом очередном случае это исключение из вековых правил, их намеренное нарушение – заявка на непривычность, неканоничность своего устройства и облика.