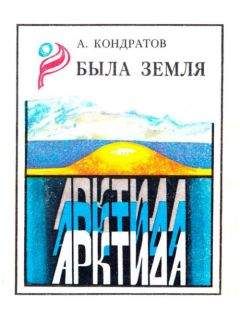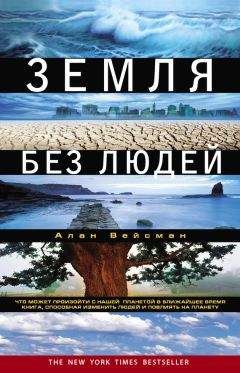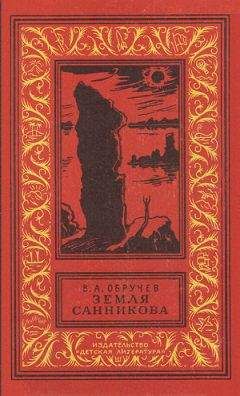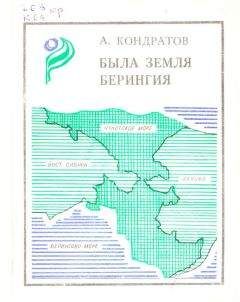Наталия Тяпугина - Поэтика Ф. М. Достоевского: опыт интерпретации
Так, Н. О. Лосский, вдумчивый интерпретатор творчества Достоевского, в работе «Достоевский и его христианское миропонимание», анализируя почти мимолетный образ Веры Лебедевой, авторские штрихи, соединяющие его с князем Мышкиным, сделал неожиданное открытие: «Любовь к женщине, могущая служить основанием для счастливого брака, – писал ученый, – медленно созревала в душе князя Мышкина в отношении к Вере Лебедевой и встречала ответ с ее стороны».[104]
И дело здесь не в избыточной фантазии исследователя или чрезмерной скудости авторских свидетельств, ставящих под сомнение эту остроумную гипотезу. Причина – в художественном принципе, в самом способе организации текста, включающем собственную логику и внутреннюю упорядоченность даже «штрихового» героя, что, в свою очередь, служит благодатной почвой для разного рода гипотез и предположений.
Создается ощущение соприкосновения с живым организмом. Романное бытие начинает восприниматься как безграничное поле возможностей. А разноцентренность изображения, позволяющая одновременно увидеть героя с разных точек зрения, создает тот многоликий жизненный фон, который позволяет почувствовать дыхание жизни и ее реакцию на князя Мышкина.
Это тоже одна из примет, роднящих русскую икону и произведение Достоевского. Как известно, разноцентренность – это прием, связанный с обратной перспективой: «Рисунок строится так, как если бы на разные части его глаз смотрел, меняя свое место».[105]
Обнаруживается и еще одно качество, которое сближает художественный почерк Достоевского с приемами иконописцев: отсутствие сознательного стремления к изяществу, при том, что красота и в том и в другом случае ощущается как мощнейший стержень бытия. Именно серьезность тона, обусловленная высотой творческой задачи, делает манеру писателя подобной манере иконописца: проникнутая благоговением к святости, она чужда бытовых подробностей, натуралистического воспроизведения повседневности.
Сдержанный, аскетический способ портретирования князя Мышкина рождает в нашей памяти не полнокровное письмо живописного портрета и не резкую определенность графики, а, скорее, икону. В том смысле, как она создавалась и понималась нашими предками: «Икона – не портрет, а прообраз грядущего храмового человечества. И, так как этого человечества мы пока не видим в нынешних грешных людях, а только угадываем, – икона может служить лишь символическим его изображением.
Что означает в этом изображении истонченная телесность? Это – резко выраженное отрицание того самого биологизма, который возводит насыщение плоти в высшую и безусловную заповедь».[106]
Именно «истонченная телесность» акцентируется и в романном изображении Князя Христа: «Обладатель плаща с капюшоном был молодой человек, тоже лет двадцати шести или двадцати семи, роста немного повыше среднего, очень белокур, густоволос, со впалыми щеками и с легонькою, востренькою, почти совершенно белою бородкой. Глаза его были большие, голубые и пристальные; во взгляде их было что-то тихое, но тяжелое, что-то полное того странного выражения, по которому некоторые угадывают с первого взгляда в субъекте падучую болезнь Лицо молодого человека было, впрочем, приятное, тонкое и сухое, но бесцветное, а теперь даже досиня иззябшее. В руках его болтался тощий узелок из старого, полинялого футляра, заключавший, кажется, все его дорожное достояние. На ногах его были толстоподошвенные башмаки с штиблетами, – все не по-русски» (6) (Выделено нами – Н.Т.)
Как видим, изображение Мышкина приближено к иконописному и по отрешенности от житейских условий, и по формальным признакам. Святые на русских иконах изображаются как «лица с бородой» (Ф. Буслаев), как характеры сложившиеся. То же – у героя Достоевского. Вспомним тонкие, «сухие» иконописные лики Христа, Николая Чудотворца или Преподобного Сергия Радонежского, их «востренькие, почти совершенно белые бородки» и огромные, на пол-лица глаза. Если прибавить к сказанному выражение тихой сосредоточенности и отрешенности, станет очевидно, что случайными эти совпадения быть не могли.
Известно, что ко времени создания «Идиота», Достоевский осознал свою религиозность как любовь к православию. Именно к этому времени относятся его высказывания о ценности православного почитания иконы. Характерно в этом смысле его признание, сделанное в письме к А. Н. Майкову по поводу его стихотворения «У часовни». Признание это столь важно для нас, что приведем здесь и само стихотворение:
Дорог мне перед иконой
В светлой ризе золотой
Этот ярый воск, возженный
Чьей неведомо рукой…
Знаю я, свеча пылает,
Клир торжественно поет;
Чье-то горе утихает,
Кто-то слезы тихо льет:
Светлый ангел упованья
Пролетает над толпой…
Этих свеч знаменованье
Чую трепетной душой,
Это – медный грош вдовицы,
Это – лепта бедняка,
Это… может быть… убийцы
Покаянная тоска…
Это – светлое мгновенье
В диком мраке и глуши,
Память слез и умиленья
В вечность глянувшей души.
«Это одно из лучших стихотворений ваших, – пишет Достоевский другу, – все прелестно, но одним только я недоволен: тоном. Вы как будто извиняете икону, оправдываете: пусть, дескать, это изуверство, но ведь это слезы убийцы и т. д. Одно слово: «Верите вы иконе или нет!» (Храбрее, смелее, дорогой мой, уверуйте)»[107]
В «Идиоте» святыня обрела словесную плоть. Вот почему на этом произведении и лежит печать вечности. Притчевая многомудрость и проповедническая страстность соединяются в романе с иконописным аскетизмом и надмирностью. Не только печать творческого гения, но и след истинно религиозного вдохновения хранит это произведение.
«Быть своим…» Вместо заключения
Обозначим некоторые пунктиры в писательском самосознании Достоевского: от ощущения «клада» в своей душе и страха с этим «сокровищем» не совладать («Господин Прохарчин», «Хозяйка») к пониманию миссии русского писателя («Идиот») и далее – к стремлению воздействовать через литературу на сам ход жизни («Дневник писателя»). Все это этапы между собой тесно связаны и друг друга обусловливают. Они свидетельствуют не только о росте писательского мастерства, об усложнении писательских задач, но и об изменении отношений художника с жизнью: от страха перед ее хаотичностью к обретению своего надежного места в ней и, в итоге, к обузданию жизненной стихии с помощью слова.
«Дневник писателя», с его предельной авторской открытостью, позволяет выявить технологию творчества, понять механизм проникновения слова писателя в душу читателя. Ведь условия «Дневника» – это, по сути, жизнь на миру, «возвращение в непосредственность, в массу», то есть обратная связь здесь предполагается как необходимая составляющая.[108]
Но вначале – об авторской мотивации издания. Достоевский к 1873 году – ко времени публикации первых глав «Дневника писателя», не говоря уже о позднейших выпусках 1876–1877 и 1880 годов, – это знаменитый писатель, за творчеством которого жадно следит вся читающая Россия. И вот он, своим талантом вознесенный на пьедестал известности, решает возвратиться в народ. Это был его свободный выбор, решение «не по воле, не по разуму, не по сознанию, а по непосредственному ужасно-сильному, непобедимому ощущению, что это ужасно хорошо». Достоевский в этом опыте реально воплощает свою волю, заключающуюся в том, чтобы добровольно отказаться от личной воли, слиться с народом, послужить ему: «Достигнуть полного могущества сознания и развития, вполне сознать свое я – и отдать это все самовольно для всех».[109] Одним словом, повторить в литературе и жизни опыт своего любимого героя – Льва Николаевича Мышкина. При этом появляется возможность исправить ошибки другого литературного типа – Дон-Кихота, которому не достало главного, «одного только последнего дара – именно: гения, чтоб управить всем богатством этих даров и всем могуществом их, – управить и направить все это могущество на правдивый, а не фантастический и сумасшедший путь деятельности во благо человечества». Главная беда вечных Дон-Кихотов, этих благороднейших друзей человечества, состоит в том, что они «не сумели прозреть истинный смысл вещей и отыскать их новое слово…» (XXVI, 25)
А «новое» слово для Достоевского такое, которое способно преобразить жизнь. Это слово – действие, помощь, совет. Оно упорядочит картину мира, откликнется реальными добрыми последствиями в судьбах людей. Конечно, это не было абсолютной новостью для России, в которой Гоголь еще в 1840-е годы пришел к пониманию творчества как «руки помощи изнемогшему духом». Некоторые это вообще считают свойством русского национального гения, который, «в отличие от западноевропейского, поднявшись на вершину, бросается вниз и хочет слиться с землей и народом, он не хочет быть привилегированной расой, ему чужда идея сверхчеловека».[110]