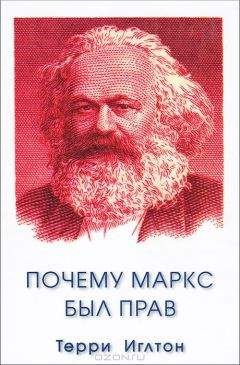Терри Иглтон - Теория литературы. Введение
Рассматривать отношения между языком и человеческой субъективностью в таком разрезе – значит соглашаться со структуралистами в избегании того, что может быть названо «гуманистическим» заблуждением – наивного представления, будто литературный текст является лишь чем-то вроде транскрипции живого голоса реального человека, говорящего нам что-то. Такой подход всегда стремится указать на отличительную особенность литературы – её закреплённость в письме — как на несколько смущающую: печатный текст, во всей его холодной безличности, ставит между нами и автором громоздкое сооружение. Если б мы только могли поговорить с Сервантесом лично! Такая позиция «дематериализует» литературу, старается редуцировать материальную плотность её языка до сокровенной духовной встречи с живыми «личностями». Это сопровождается либеральным подозрением ко всему, что не может быть немедленно сведено к «межличностным» отношениям – от феминизма до фабричного производства. В конечном счете такой подход не рассматривает литературное произведение как текст. Но если структурализм и избежал гуманистических заблуждений, то он добился лишь того, что попал в противоположную ловушку: упразднение человеческого субъекта в той или иной степени. Для структуралистов «идеальным читателем» произведения был бы некто, кто имел бы в своем распоряжении все коды, которые приводят любое произведение в состояние исчерпывающей доступности. Таким образом, читатель есть разновидность отражения в зеркале самого произведения – некто, кто понимает, «как это было». Идеальный читатель должен быть полностью оснащен техническим аппаратом для дешифровки произведения, быть точным в применении этого аппарата и быть свободным от препятствующих ограничений. Если эта модель принимается в крайней форме, читатель не должен иметь социального положения, класса, пола, должен быть свободным от этнических характеристик и от ограничений в культурных предпочтениях. В действительности же сложно найти читателей, которые бы вполне удовлетворяли всем этим требованиям, но структуралисты полагают, что идеальный читатель не должен допускать таких банальностей, как собственное существование. Ведь речь идет просто об удобной эвристической (или исследовательской) выдумке, служащей для того, чтобы узнать, каково это: прочесть конкретный текст «единственно верно». Другими словами, читатель просто функция самого текста: дать исчерпывающее описание текста – то же самое, что дать полную характеристику читателя, требующегося для его понимания.
Идеальный читатель, или «сверхчитатель», указанный структурализмом, есть трансцендентальный субъект, свободный от любых ограничивающих социальных факторов. Эта концепция испытала большое влияние идей американского лингвиста Ноама Хомского о лингвистической «компетенции», которая означает врождённую способность, позволяющую нам постигнуть лежащие в основании языка правила. Но даже Леви-Стросс не смог прочесть тексты так, как прочел бы сам Всевышний. Есть правдоподобное предположение о том, что первоначально структуралистские штудии Леви-Стросса имели больше общего с его политическими взглядами на восстановление Франции после войны, и в них не было никакой богоподобной самоуверенности[119]. Структурализм, помимо прочего, является ещё одной литературной теорией, обреченной на попытки заменить религию чем-то более эффективным – в данном случае, современной религией науки. Но поиски чистого, объективного чтения литературного произведения ясно показывают всю сложность проблемы. Кажется невозможным искоренить некоторые элементы интерпретации, в частности субъективность, даже при самом строгом анализе. Как, например, структуралист идентифицирует различные «знаковые единицы», стоящие в тексте на первом месте? Как он решает, что определённый знак или набор знаков создает базовое единство, без обращения к исходным схемам культуры, которые структурализм в своих крайних формах хочет проигнорировать? Для Бахтина весь язык лишь потому, что он является материей социальной практики, неизбежно нацелен на оценку. Слова не просто указывают на объекты, но предполагают отношение к ним: тон, которым вы говорите «Передайте мне сыр», может показать, как вы воспринимаете меня, себя, сыр и всю ситуацию, в которой мы оказались. Структурализм допускает, что язык движется благодаря таким «коннотативным» изменениям, но он никогда полностью не вовлечен в них. Структурализм, несомненно, стремится к отказу от всяких оценочных суждений по поводу того, «хорошо», «плохо» или «безразлично» данное конкретное произведение. Эта позиция связана с тем, что такой подход воспринимается им как ненаучный; связана она и с усталостью от беллетристической изысканности. Таким образом, нет принципиальной причины, почему не быть структуралистом, всю жизнь изучающим автобусные билеты. Сама по себе наука не дает вам ключа к разгадке, что важно, а что – нет. Скромность, с которой структурализм уклоняется от оценки, похожая на скромность бихевиористской психологии с ее застенчивостью, мягкими выражениями, многословными уклонениями от любой разновидности языка, за которой ощущается человек, – более чем красноречива. Она показывает, до какой степени структурализм был одурачен отчужденной теорией науки – этой мощной доминантой позднего капиталистического общества.
То, что структурализм в некотором роде примкнул к целям и делам такого общества, является достаточно очевидным, если взглянуть на положение, которое он занял в Англии. Консервативная английская литературная критика логично разделилась по поводу структурализма на два лагеря. С одной стороны оказались те, кто видел в нем конец привычной для нас цивилизации. С другой – те некогда или до сих пор консервативные критики, что с разной степенью достоинства вскочили на этот экипаж, давно покинувший Париж. Тот факт, что структурализм уже вышел из моды в Европе за несколько лет до этого, мало их напугал: разрыв в десяток лет или около того, вероятно, обычен для идей, пересекающих Ла Манш. Можно сказать, что критики ведут себя как интеллектуальные аналоги чиновников по делам иммигрантов: их работа – пребывать в Дувре и, как только появляются новомодные идеи из Парижа, проверять их образцы, кажущиеся более или менее совместимыми с традиционными литературоведческими техниками, и подавать знак, принимать ли их благосклонно и пропускать ли в страну взрывоопасное содержимое (марксизм, феминизм, фрейдизм), которое прибыло с ними. Все те, что не покажутся тошнотворными среднему классу пригородов, получат разрешение на работу; «менее одаренные» отправятся назад следующим пароходом. Некоторые из критических техник действительно были острыми, тонкими и полезными: для Англии это уже прогресс по сравнению с тем, что было ранее, и это лучше всего показывает интеллектуальную смелость, невиданную со дней движения «Скрутини». Некоторые новые индивидуальные прочтения текстов отмечались как чрезвычайно убедительные и строгие, и соединение французского структурализма с английским «чувством языка» оказалось очень ценным. Все это – из-за крайней избирательности по отношению к структурализму, что не всегда осознается и потому должно быть подчеркнуто.
Смысл этого разумного импорта структуралистских концепций состоит в сохранении литературоведения в качестве рода деятельности. Некоторое время было очевидно, что оно испытывает определённую нехватку идей, нуждается в «долгосрочной перспективе», будучи удручающе слепым одновременно к новым теориям и собственным скрытым смыслам. Если ЕС может помочь Великобритании в плане экономики, то структурализм может сделать то же самое в интеллектуальной сфере. Структурализм функционировал как вид программы помощи для интеллектуально недоразвитых стран, снабжая их мощным оборудованием, которое может пробудить к жизни собственное слабое производство. Он обещал дать всему академическому литературному предприятию более твердые точки опоры, позволяя превозмочь так называемый «кризис гуманитарных наук». Он обеспечил новый ответ на вопрос «Чему мы учим?» (и «Что мы изучаем?»). Старый ответ – «Литературу», как мы увидели, не полностью нас удовлетворяет: грубо говоря, он предполагает слишком сильный субъективизм. Но если то, чему мы учим и что изучаем, не столько «литературная работа», сколько «литературная система» – цельная система кодов, жанров и традиций, при помощи которых мы опознаем и интерпретируем литературные произведения, – тогда мы открыли новый достойный предмет изучения. Литературоведение может стать метакритикой: ее роль состоит в первую очередь не в интерпретации или оценке, но в том, чтобы сделать шаг назад и проверить логику наших утверждений, проанализировать то, в чем мы уверены, узнать, какие коды и модели мы применяем, когда утверждаем что-либо. «Заниматься изучением литературы, – утверждает Джонатан Каллер, – не значит сделать еще одну интерпретацию “Короля Лира”, но значит углубить чье-то понимание традиций, лежащих в основе института литературы, механизмы действия этого института и модели его дискурса». Структурализм – это способ освежить институт литературы, сделать его raison d’êtrê[120] более достойным и захватывающим, нежели восторги по поводу солнечного заката.