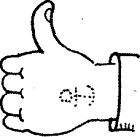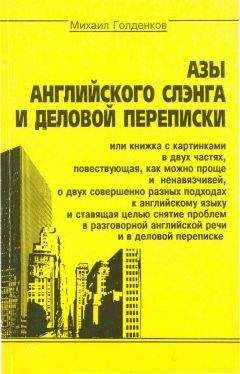Валентина Заманская - Экзистенциальная традиция в русской литературе XX века. Диалоги на границах столетий
Мысль в «Петербурге» индивидуализирована. Это также типологический признак экзистенциализма: персонажи служат воплощению авторских философских идей, версий, концепций. Но индивидуализирована именно их мысль. При деиндивидуализации персонажей едва ли не единственный способ их индивидуализации осуществляется через своеобразие мысленного хода. Полная неродственность Аполлона Аполлоновича и Николая Аполлоновича объясняется неродственностью их мысленного хода: у Николая Аполлоновича есть одушевление мыслью. Мысленный ход Николая Аполлоновича – это сознание, отделенное от действительности, неуправляемое и неподконтрольное самому человеку. Реальный мир – только пучина невнятностей, в которой увязает сознание, как муха (позднее эта параллель «Петербурга» и «Тошноты» и завершится сартровским образом – муха в пучине жизни). И лишь только сосредоточение в мысли позволяет Николаю Аполлоновичу встать над житейскими мелочами и пучиной невнятностей, одновременно стать солнцем сознания – творческим существом. Варианты, образный спектр и сюжетный ход мысли Николая Аполлоновича отличаются от отцовского: «одушевилось мыслью», «умозаключая», «сознание и самосознание», «сосредоточение в мысли», «прихотливый строй мысли», «воспоминания». В любом случае мысль Николая Аполлоновича (в отличие от отцовской), даже если она существует в мире иллюзий, – мысль живая.
Спектр мысли Аполлона Аполлоновича совершенно иной. Предрасположенность к мозговой игре как к цели и продукту мыслительной деятельности доходит в самосознании (и самооценке) героя до ирреальных форм, обусловливая и соответствующий образный спектр: «оккультная сила», «последняя инстанция»; сознание – центр Аполлона Аполлоновича, а сам он – центр государственного организма; точка сознания – между глазами и лбом; сознание – огонек, мысли – молнии, голова Горгоны, черепная коробка – футляр мысли. Образный спектр мысли Аполлона Аполлоновича оформлен Белым, к тому же, в высоком стиле, что создает сатирический эффект: появляется некая зловеще-сатирическая сила – есть структура мысли, но нет мысли! Потому мыслительная работа Аполлона Аполлоновича идет на холостом ходу. Сатирический эффект усиливается тем, что свой образ Аполлон Аполлонович создает также как продукт собственной мозговой игры (на равных с незнакомцем): в самосознании он вырастает до некоего центра, до Медузы Горгоны.
Так в «Петербурге» через сюжет автономной мысли воплощается еще один закон художественного мышления Андрея Белого (и – шире – искусства XX века): антиномичность сознания. Исходя из идеи самоценности человека, которая до апогея доведена Белым в его концепции онтологического человека, в процессе анализа автономной мысли героев автор подходит к выводу совершенно противоположному: идея онтологического человека как такового, уходящего в космические беспредельности, замкнута на предельно заземленном, тривиальном, бездуховном реальном человеке, каким является каждый персонаж «Петербурга». Антиномия самоценности и тривиальности человека усиливается земной неинтеллектуальностью героев. Так на материале практически каждой антиномической пары «Петербург» замкнут между бесконечным и конечным, между бытием и бытом; на их пересечениях и возникают семантические и эмоциональные поля романа.
В «Петербурге», созидающем экзистенциальную концепцию мира, именно самостоятельный сюжет мысли обеспечивает огромную внутреннюю динамику, столь отличную от бедной внешне динамики событийной. «Петербург» (подобно другим произведениям, несущим в себе феномен экзистенциального сознания) не поддается фабульному изложению. Наряду с тем, что за свои пределы материя (Бердяев) выходит, – за свои пределы выходит и мысль. Причем этот процесс у каждого из персонажей осуществляется по-разному. В образе Аполлона Аполлоновича появляется сатирическая окрашенность; она дополняет характеристику сознания, неадекватного самому себе: «мозговую игру носителя бриллиантовых знаков», содержание которой углубляется от «праздной мысли» до «бесконтрольных действий» рожденных ею образов, совершающихся уже «вне сенаторской головы»! Само Я Аблеухова – один из таких образов, совершающих бесконтрольные действия «вне сенаторской головы». Н. Бердяев, говоря об аналитическом искусстве начала XX века, в работах Пикассо и романе Белого «Петербург» выявил процессы дематериализации плоти. В «Петербурге» показан еще и процесс дематериализации сознания как результат автономной «мозговой игры».
К общим с Андреевым и Кафкой выводам Белый пришел своими путями. Все в его романе – материя, сознание, динамика событий и внутренняя энергия – не равно себе. Все выходит за свои пределы, все рвет естественные формы и объемы. Плотность, насыщенность невысказанного неизмеримо выше плотности случившегося и сказанного! Может быть, в этом нарушении границ материи как трагическом признаке кризисного сознания рубежа веков (Бердяев), прекрасно отраженном в «Петербурге» Белого, и формируются истоки авангарда, который наиболее абсолютно и адекватно выражает экзистенциальное мироощущение? В процессе авангардизации русского искусства в начале XX столетия место романа Андрея Белого исключительное.
Экзистенциальная концепция истории, выраженная в романе, вполне определяет позицию автора в оценке исторических событий, социальных явлений, в отношении к революции. Идея революции персонифицируется в образе и судьбе Александра Ивановича Дудкина. Здесь разрешаются и сюжет дематериализованного сознания и автономной «мозговой игры». Дудкин претендует быть фигурой исторической: теоретик и деятель революционного террора, Неуловимый, квинтэссенция революции, полковник революции, артист от революции, Дудкин – глава общего дела и первая его жертва, ибо его «общее дело выключило из списка живых»! В известной степени, он – сознание революции, сознание «общего дела» и его судьба. В образе Дудкина сюжет дематериализованной мысли, вышедший за свои пределы, и обнаруживает фарс «общего дела» (ключевые главы – «Особа», «Бегство»). Так, теория революционного террора рождается в «убогом обиталище» Александра Ивановича, в «одиночестве промеж коричневых пятен», в результате наблюдений «за жизнью мокриц в сыроватых трещинах стенок». Сатирические подтексты раскрывают «общее дело» как фарс, но есть и вторая сторона – трагедия человека, попавшего под его колесо.
Сознание революции – это и есть перспектива автономной мысли, плод неадекватного сознания Александра Ивановича. Лаборатория этого сознания раскрыта Белым в главе «Особа». Причем уже здесь художник интегрирует все параметры и традиции экзистенциального сознания. Это сознание формируется в традициях Андреева и Достоевского. Параметры и составные революционно-дудкинского сознания таковы: сознание одинокого человека, «выключенного из списка живых»; сознание, сконструированное в лабораторно-моделируемой ситуации (Дудкин наблюдает жизнь через «окно», которое для него – «вырез в необъятность»); сознание больное; сознание преступное в принципе; сознание озлобленное; сознание галлюцинирующее, продукт деформированной одиночеством и ложной идеей психики; сознание суицидальное, ибо основа его «общая жажда смерти», которая и осуществляется в мести Липпанченке, в моменте, когда Дудкин переживает «восторг, упоение… блаженство и ужас». Александр
Иванович знает людские судьбы, а в судьбу свою он взглянуть побоялся, лишь тоска захлестывала его! Это метафизическая тоска, ужас предчувствия конца, метафизическое прозрение, не раз звучавшее в эсхатологических интонациях Н. Бердяева и самого Андрея Белого, который также им не был чужд.
В романе развиваются и сходятся две равно абсурдные и равно роковые неотвратимости: вышедшее за свои пределы, дематериализованное сознание полковника общего дела Александра Ивановича и история как исторически замкнутое пространство. Вершина замыкающего исторического пространства – 1905 год. Его границы: Россия – сёла – города – улицы – околоточный; заводы – людской рой – огромная чернота – Невский. Это исторически замкнутое и абсурдное пространство, ибо оно изъято из хода истории, из времени. Оно застыло в вечности – апричинное, алогичное, без прошлого и без будущего. («Этой песни ранее не было; этой песни не будет: никогда».)
Точка пересечения двух абсурдных неотвратимостей – Россия, Петербург, октябрь. Так Белым монтируются, на первый взгляд, абсолютно несводимые планы: больное сознание незнакомца (в том числе сфера его подсознания) и – Россия. Метафизическая тревога – общее, что их объединяет, потому что равно вышли за свои пределы сознание человека и логика истории. То и другое – алогично, то и другое – галлюцинация, то и другое – «мозговая игра». То и другое – продукт автономной мысли, утратившей связь с реальностью, людьми, жизнью, мысли, утратившей доброту («ненавижу», «все злели»), мысли, утратившей Бога, (хотя обращение к Богу и появляется весьма часто). Но мир – без Бога: и человек, и Россия. Потому все – ледяные пространства… и все герои романа Белого в той или иной мере их обитатели.