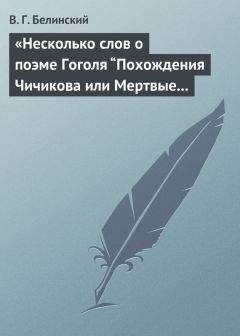Галина Юзефович - Удивительные приключения рыбы-лоцмана: 150 000 слов о литературе
Трудно представить себе мир, менее похожий на наш, чем тот, который рисует в «Ильгете» Александр Григоренко. Огромное древо Йонесси – Енисей – раскинуло в этом мире свои ветви-притоки, и на каждой из них обитает отдельное племя. Только главный герой – приемыш Ильгет – оторван от родной ветки: когда-то давно его вместе с братом подобрал чужак, сначала растивший мальчиков как родных сыновей, но позже возненавидевший их и проклявший. История великой вражды между Ильгетом и его приемным отцом – вражды, перерастающей в настоящую таежную мировую войну, – служит стволом романного древа, от которого – подобно ветвям – отходят десятки больших и малых сюжетных линий. Какие-то тянут на полноценный роман в романе, какие-то похожи на завершенные компактные новеллы, какие-то намечены только контуром. Любовь, предательство, святотатство и кара за него, любовь к детям, одиночество, стремление к мести, жажда власти, горечь взросления и зов родной крови – всё это увязано в «Ильгете» в плотный, тяжелый узел, скрепленный обжигающими и яркими человеческими эмоциями. Очень странными (разницу в культурных кодах не стоит недооценивать), но при этом невероятно убедительными, настоящими – и узнаваемыми. Не оставляющими ни малейших сомнений в том, что разница между цивилизованными нами, живущими в мире красивых и сложных вещей, и «дикарями», мажущими жиром лицо, ничтожна.
Вневременной и во многом условный (сам Григоренко признает, что в его прозе много допущений и прямого вымысла), «Ильгет» похож на лучшие образчики жанра фэнтези. Однако его достоинства – это в первую очередь достоинства серьезной нежанровой прозы: объемные характеры, мощные сюжетные повороты, глубокая и тонкая прорисовка деталей, убористый и емкий язык. Вторично взявшись за самоубийственную с коммерческой точки зрения «этническую», «северную» тему, Григоренко сумел на том же материале выстроить совершенно новый, ничуть не похожий на «Мэбэта» текст, да еще и с выраженным этическим месседжем. Для второго романа это определенно программа-максимум, большего и желать нельзя.
Юрий Милославский
Возлюбленная тень
[76]
То обстоятельство, что писатель класса Юрия Милославского сумел остаться в нашей стране практически незамеченным, парадоксальным образом делает честь русской литературе второй половины XX века: фигура такого масштаба могла затеряться только на фоне очень красочного и колоритного пейзажа.
Харьковчанин, поэт, участник поэтической студии Бориса Чичибабина. Давнишний, с семидесятых еще годов, эмигрант. Глубоко православный человек. Друг и протеже Бродского, собутыльник и собеседник Довлатова. Филолог-пушкинист и университетский преподаватель. Мемуарист. Прозаик. Понятная, даже в чем-то банальная биография российского интеллигента 1948 года рождения, никак не позволяющая заподозрить той необычайной силы письма, которую демонстрирует Милославский, – в первую очередь, в своей малой прозе.
Случайная ресторанная драка калечит судьбы двух людей – оперного певца и спортсмена-тяжелоатлета (рассказ «Лирический тенор»). Вешается в белой горячке московский вор-рецидивист («Манон»). Ждет какого-то «тайного сигнала» выживший из ума еврей-комсомолец двадцатых годов («Ройзин»). Насилует умственно отсталую девушку сбежавший из колонии малолетка-бандит («Стебанутые»). Кипит, побулькивает обыденными и в то же время совершенно невероятными драмами крымская курортная жизнь двадцатых годов (один из лучших рассказов сборника – «Скажите, девушки, подружке вашей…»). Маленькие – на три-четыре странички – тексты. Скупые сюжеты (или практически полное их отсутствие). Странные, амбивалентные герои – городские подонки, уличная гопота, изредка разбавляемая приблудными, тяготеющими к чужой и чуждой силе интеллигентами. И при этом пульсирующее в каждой строчке ощущение чего-то большего, чего-то невысказанного и невыразимого, чего-то, отдающего прозой двадцатых годов прошлого века – Бабелем, Платоновым, Всеволодом Ивановым… Милославский ловит читателя на сложную метафорику, завлекает невероятным внутренним напряжением, заманивает рельефной выпуклостью характеров – и нередко бросает на полдороге, не рассказав историю до конца, не удовлетворив полностью читательского любопытства и тем самым побуждая читать дальше и дальше, страдая одновременно от жажды и абстинентного синдрома.
Если применительно к рассказам Юрия Милославского вынесенное на обложку определение Иосифа Бродского «Словно не пером написано, а вырезано бритвой» выглядит вполне уместной и ни разу не чрезмерной похвалой, то с романом «Укрепленные города», также вошедшим в сборник (хотя и предусмотрительно помещенным ближе к его концу), дело обстоит сложнее. Куда более традиционный, эмигрантски-диссидентский текст поначалу кажется несколько пресным и даже вторичным – вроде бы про многое из этого мы уже читали как минимум в лимоновском «Эдичке». Сложности отъезда и послеотъездного вживания в новую среду, равное убожество и советской, и антисоветской романтики, условный гуманизм Запада и условное же злодейство КГБ, да еще и в нарочито гротескном, картонно-пародийном, ерническом антураже… Однако уже через сотню страниц первоначальный читательский скепсис «через губу» диковинным образом сменяется искренним и вполне горячим сопереживанием, а герои из картонных и приблизительных внезапно становятся живыми, близкими, узнаваемыми, внятно требующими немедленного и горячего сострадания.
Словом, удивительный, право слово, совершенно удивительный автор. Как мы могли не замечать его так долго – вопрос по-настоящему важный. Но еще более важный вопрос – сможет ли Милославский удержать планку в своем новом романе, который он, по слухам, то ли дописывает, то ли уже дописал (после без малого двадцатилетней-то паузы!). Что называется, будем следить за обновлениями.
Елена Чижова
Время женщин
[77]
Букеровская лауреатка минувшего года, петербурженка Елена Чижова стала едва ли не самой неизвестной из всех обладателей этой премии за ее без малого двадцатилетнюю историю. На момент присуждения Чижовой престижной награды у нее не было издано ни одной книги – только толстожурнальные публикации. Теперь, наконец, справедливость восторжествовала, и букероносный роман «Время женщин» вышел отдельной книгой, так что с ним могут ознакомиться все желающие.
В центре романа – история Софьи-Сюзанны, немой от рождения дочки питерского богемного бездельника и деревенской девушки, фабричной работницы. Красивое иностранное имя подобрала для дочки простодушная мать, обычное русское дали при крещении бабушки – одинокие соседки по коммунальной квартире, дружно принявшие девочку на воспитание. Укорененные в дореволюционной культуре и быте, полностью потерянные среди советских реалий и категорически их не приемлющие бабушки – обладательницы словно бы из другого мира пришедших имен Гликерия, Евдокия и Ариадна – ткут вокруг своей приемной внучки теплый кокон, защищающий девочку от всех невзгод, но при этом полностью изолирующий ее от внешнего мира. Умирает от рака мать Софьи-Сюзанны, новоявленный отчим пересчитывает у ее гроба медяки, полученные за брак со смертельно больной женщиной, меняется время вокруг, а девочка по-прежнему остается во власти сладкой и вневременной детской дремы. И лишь медленное угасание бабушек позволяет героине выйти из уютного мирка, ободрать локти и колени о внешнюю хищную реальность и, соединив прошлое с настоящим, обрести, наконец, собственный голос – в самом буквальном смысле слова.
Аллюзии, приходящие на ум при чтении «Времени женщин», разнообразны – от андерсоновской «Снежной королевы» до «Вдовьего парохода» И.Грековой (с последним есть совпадения едва ли не текстуальные). Однако очевидную (и явно неслучайную) сюжетную вторичность с лихвой компенсирует стилистическая новизна. Язык романа в мгновение ока взмывает от сюсюкающей переусложненности фрагментов с бабушкой Гликерией (в прошлом портнихой) к кристально-простой, почти «никакой» прозрачности кусков, написанных от лица повзрослевшей «внучки», от нарочитого просторечья матери Софьи-Сюзанны к изысканно-старомодной речи интеллигентной бабушки Ариадны. Именно из этого умело прописанного многоголосья, из разницы судеб (в прошлом у каждой из героинь – своя многократно оплаканная трагедия), из ощущения теплого, тесного, укромного мира с одной стороны и большой, пугающей и волнующе-прекрасной жизни снаружи и рождается тот самый пронзительный, практически душераздирающий эффект, который, вероятно, и предопределил решение букеровского жюри. Решения, с которым в кои-то веки не тянет поспорить.
Майя Кучерская
Плач по уехавшей учительнице рисования
[78]