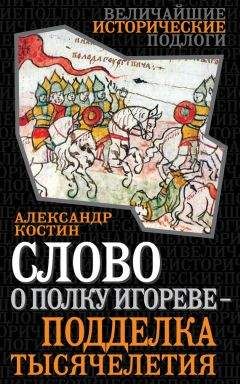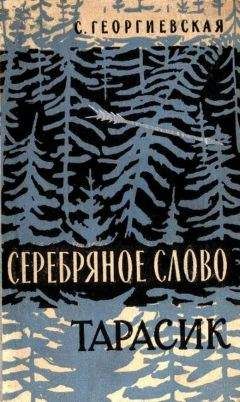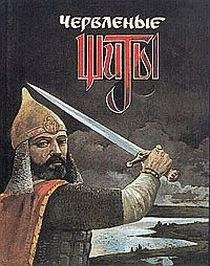Вячеслав Головко - Историческая поэтика русской классической повести: учебное пособие
Автор классической повести, идущий «от частного к общему»[406], на основе анализа причинно-следственной связи, раскрывающейся «в отдельных проявлениях», освещает процесы «универсальные», закономерные. Это создаёт основу типизации в повести, обусловливает специфику обобщающх функций её жанра.
Жанровое «событие» имеет свои «рамки» в эстетическом познании закономерных причинно-следственных отношений, которые, в свою очередь, находятся в каузальной зависимости от двуаспектной ситуации («человек» – «микросреда»), определяющей основной конструктивный принцип произведений этого вида. Ближайшее окружение героя «аккумулирует» зависимости причинно-следственного характера, раскрываемые с «одной стороны». Когда писатели изображали жизнь в состоянии ломки, кардинальных перемен в поведении людей, в сфере морали, они неизбежно открывали и то новое в духовном облике человека, которое было «результатом», «следствием» изменений условий жизни, наблюдавшихся в ближайшем окружении героев и мирочувствии человека. Эти изменения отражались на процессах саморазвития, самодвижения характеров («Грачевский крокодил» Салова, «Очарованный странник» Лескова, «По-американски!..» Боборыкина, «Отчаянный» Тургенева, «Между людьми» Решетникова, «Два памятных дня» Хвощинской, «Благодеяние» Плещеева, «Три сестры» М. Вовчок, «Степан Огоньков» Засодимского). В тех же случаях, когда конфликты повестей возводились к метафизическим основам бытия, освещались с точки зрения «вечности», в свете общечеловеческих ценностей и всеобщих определений бытия («Первая любовь», «Довольно», «Клара Милич» Тургенева, «Детские годы. Из воспоминаний Меркула Праотцева» Лескова, «Хаджи-Мурат» Толстого), то система детерминант охватывала и сферу «универсального», такого «всеобщего», с позиций которого возможно осмысление актуальных для любого времени, для любой эпохи нравственно-философских, историософских, онтологических проблем.
Но опять-таки эти закономерности, свойственные реализму вообще, в повести проявляются специфично: многообразные «причины», обнаруживающие себя во внешних и внутренних «условиях», относятся к разным жизненным сферам и ассоциативно сопоставляются как «порядковые» уровни системности.
Внешние закономерные причинно-следственные связи в этом жанре дифференцируются. «Исторические», «социально-исторические» детерминанты, например, порождают столкновения героев, противопоставленных «микросреде», со всем тем, что обусловлено «видовыми» (социально-бытовыми, сословными, классовыми и т. д.) факторами (Рязанов, Костин, Софи, Бабурин, Полтев, рассказчица в повести Боборыкина «По-американски!..», Пётр Кузьмин и мн. др.). Это вовсе не предполагает однозначности и нормативности в изображении действия разнообразных детерминант: они дифференцируются не только по соотношению внешних и внутренних причин, но и по направленности (обусловленность поступков, характеров, действий, желаний, идеалов, стремлений, целей и т. д.). Так возникает градация персонажей: есть такие, которые сформировались в рамках сложившихся социально-бытовых условий и ведут себя в соответствии с её нормами (то есть находятся в компетенции «микросреды»), изображаются и другие герои, те, кто вырывается из-под таких детерминирующих условий. Подобные персонажи являются предтечей нового, обусловливаются более широкими факторами, выходящими за пределы социально-бытовых обстоятельств.
Жанровая «норма» повести позволяла выводить детерминанты из источника, находящегося за пределами событийного хронотопа – из времени автора или универсального хронотопа. Этим также объясняется то, что в целостности жанра «примиряется» «абсолютное прошлое» художественного мира произведений с актуальностью их проблематики (конкретно-исторические/вечные проблемы), а характеры изображаются как широко типизированные жизненным процессом. По этой причине в философских и психологических повестях персонажи и ситуации детерминированы законами социума и метафизическими, субстанциональными началами бытия.
Образ действительности как некоего меняющегося единства, создаваемый литературой периода расцвета классического реализма, стал художественным модусом процессов жанровых взаимовлияний и художественных интеграций. В конечном итоге это вызвано усложнением проблематики повести: писатели всё чаще стали обращаться к эстетическому анализу значительных социально-исторических и даже бытийных процессов. Существует мнение, что, например, 1870-е годы «оказались малоблагоприятными» для развития «средних» эпических форм[407]. Но дело в том, что менялась сама повесть. Изучение внутреннего динамизма и эволюции жанра позволяет говорить не об утрате ею своего самостоятельного значения, а об изменениях в жанровой структуре повести, всё более приспосабливавшейся к раскрытию романного содержания (связи человека и мира, личности и общества). Повторялись только те писатели, которые не совершали эстетических открытий как в области выявления философского потенциала художественной «идеи человека», так и её эволюции (В.Г. Авсеенко, Н. Кохановская, С.В. Энгельгардт, А.Г. Бородина, Г.П. Данилевский, Новинская, П.В. Ковалевский, А.А. Брянчанинов, Л.Я. Черкасова, А. Луговой и др.).
Эволюция «идеи человека» является стимулирующим фактором формирования иного жанрового типа повести. Но уже в реалистической литературе последней трети XIX – начале XX в. обнаруживаются те особенности художественного мышления писателей, которые, с одной стороны, станут определяющими для культуры Серебряного века, а с другой – обусловят появление форм масштабного эпического повествования, позволявших наметить связи между отдельными сторонами жизненного процесса (как в «Хаджи-Мурате» Л.Н. Толстого).
В частности, выражением формирования иного типа художественного мышления является активизация роли мифопоэтических архетипов в художественной системе произведений писателей XIX в. Философско-эстетическая концепция европейского и русского модернизма может рассматриваться как вполне осознанная реакция (не только в лирической поэзии, но и в эпических жанрах, не только в творчестве писателей «первого ряда», но и представителей массовой беллетристики, например, В.Н. Каразина, А.В. Амфитеатрова, А.А. Соколова[408] и др.) на реалистическое изображение жизни, не охватывающее всей её многосложности и загадочности, а также на позитивистский подход к действительности, утверждавшийся в искусстве и науке с середины XIX в.
Характер восприятия «таинственных повестей» и «Стихотворений в прозе» Тургенева, например, раскрывает картину внутренней конфликтности процесса эстетической перестройки в рамках реалистической культуры. Поэтика данных произведений отражает предчувствие новых художественных систем – модернистской эстетики. Это подтверждается глубоким интересом писателя к философии Шопенгауэра[409], воспринимавшейся художниками нереалистических течений в её методологическом содержании. Система анализа мифопоэтики «таинственных повестей»[410], опирающаяся на идеи К. Юнга, Э. Кассирера и других философов, может быть нацелена на освещение принципов и форм художественной детерминации в произведениях писателя, отражающих процессы эволюции жанра.
Так, в «Кларе Милич» в фокусе изображения оказывается материализация душевных импульсов и ассоциативных переживаний Аратова, воспроизводится течение его внутренней жизни со всеми сложными, порой «нелогичными» проявлениями. В «таинственных повестях» уже проступают черты мифологизации повседневности, её несоответствия «здравому смыслу».
Мифологизм «Клары Милич» обнаруживается и в том, что здесь субстанцией, управляющей человеком, является созданная больным воображением и чувством героя любовь (почему и приобретает такая мифологизация трагически-обыденный характер), что повседневность – бытовая, житейская – воспринимается героем как проявление воли таинственных сил и «таинственной судьбы», перед которыми Аратов чувствует себя бессильным. «Созданная» подсознанием героя «любовь» является результатом его замкнутости, отъединённости от всех, «автономности» его сознания, и это сближает психологический анализ с «потоком сознания».
Показательно само изображение «материализации» образов подсознания Аратова, которым сон и бодрствование, реальное и ирреальное, жизнь и смерть воспринимаются как гомогенные сферы бытия, а также усиление символики (при отсутствии аллегоричности картин его видений). Здесь фиксируется то же самое единство значения и образа, о котором пишут исследователи мифа – от Шеллинга и Гегеля до А.Ф. Лосева. В соответствии с мифопоэтической традицией личность, «я» героя находят адекватные формы самовыявления в результате «перевернутой» взаимосвязи внешнего бытия и внутреннего мира Аратова, когда его сознание «творит мир», когда «сны», видения и реальность становятся амбивалентными. У Тургенева нет «двоемирия», методологической основы романтизма, но есть система бинарных оппозиций, которые восходят к поэтике мифа («любовь – смерть», «сон – явь» и др.). Вся система многообразных художественных положений композиционно организуется основными лейтмотивами (структурообразующий – бессилие героя перед властью и волей внеличных стихий). Мифопоэтические архетипы органичны для содержательной формы повести Тургенева, поскольку в ней индивидуальная психология героя становится выражением универсальных начал, «общечеловеческой» психологии, сферы «таинственного», того, что находится «внизу, под поверхностью… жизни»[411]. Это сближает Аратова с героем неомифологического романа (например, с героями Джойса, Пруста и др.). Мифопоэтизм характеризуется и укоренностью в универсально-гуманистических константах национальных художественно-философских концепций и мировой культуры. Показательно, что в произведениях позднего Тургенева, как и Достоевского, Лескова, Толстого, появилось изображение Христа или его воплощений[412]. В трактовке этого образа у Тургенева и Достоевского обнаруживаются преемственные связи с русской иконографией, которые охватывают область структурных архетипов и обусловлены глубоким воздействием на писателей её художественной философии.