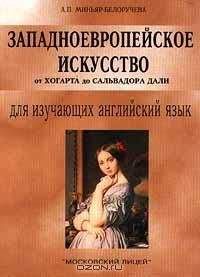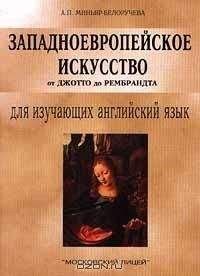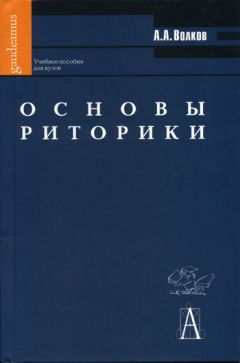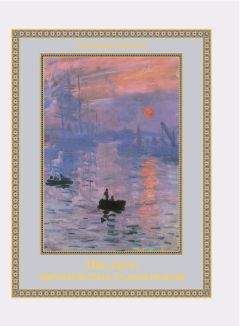Линор Горалик - Частные лица. Биографии поэтов, рассказанные ими самими
ГОРАЛИК Что на этом фоне происходит с вашими собственными стихами?
КУЗЬМИН Мне почти нечего ответить на этот вопрос. Последние годы я пишу буквально три-четыре стихотворения в год – что в нынешней ситуации автоматически наворачивает на язык формулу «как Гандлевский» (не подразумевая других оснований для сравнения). Я ведь подряжался всего лишь останавливать мгновения своей жизни, создавать их маленькие действующие модели. Мгновения, которые хочется остановить, по-прежнему есть – но каждый раз спрашиваешь себя: так ли сильно оно отличается от остановленного пять или десять лет назад? И уже теперь записываешь только в том случае, если твердо уверен, что да, отличается сильно. Знаете, это ведь еще и вопрос уверенности в себе. А у меня с этим есть некоторая двойственность, которая со стороны, наверное, незаметна, так что публика знает только про то, какой я, значитца, arrogant. Но у меня в сознании есть четкое разделение статусов: вот тут – когда я говорю и действую только и исключительно от себя лично, как частное лицо (и автор, что для меня одно и то же), а тут – как представитель некоторого «мы» (литературного поколения, независимой русской литературы, каких-то других групп и явлений, которые определенно больше меня самого). В этом втором качестве мне совершенно несложно и самому драть глотку, и кому другому ее рвать. Но на первого меня это не распространяется. Поэтому о своих собственных стихах мне всегда говорить неловко, хотя мне кажется, что я в достаточной степени умею переключать позиции, в том числе с авторской на критическую или литературоведческую, и на свои тексты смотреть трезво и отстраненно: как на не выдающиеся, но не бессмысленные, маленький, но более или менее незаменимый фрагмент большого общего целого. Однако, скажем, по собственной инициативе куда-то их предлагать для публикации я зарекся лет пятнадцать назад. В этом смысле насчет малой премии «Московский счет», которая мне досталась за лучший дебютный сборник, я не шибко обольщаюсь: когда выпускаешь «дебютный» сборник в сорок лет – тебя должны к этому моменту знать больше, чем двадцатилетнего, да и голосуют участвующие в этой истории московские поэты зачастую больше за личность, чем за тексты; так что давняя уже премия Андрея Белого «за заслуги», то есть за организационную работу, значила для меня много больше, потому что это была легитимация: отцы литературного самиздата 80-х признали, что мы – их прямые наследники. Но примерно в тех количествах, на которые я со своими стихами, как мне кажется, вправе претендовать, мне всяких бонусов за них и досталось: я прочел об одном из них глубокий и доброжелательный анализ (в статье Марии Майофис о гражданской лирике), держал в руках десяток переводов на разные языки (в том числе один иероглифами, было забавно угадывать по количеству и относительной длине строк, какие это тексты), получил два трогательных письма от неизвестных мне людей о том, как мои стихи помогают им жить, раз в жизни сорвал овацию у большого зала (на уже помянутом львовском фестивале)… Так что со стороны моего сочинительства у меня совершенно нет претензий к жизни – вот со стороны литературтрегерской…
А вообще, по итогам этой нашей с вами беседы, у меня сильнейшее ощущение, что я и тут все сделал неправильно. Что людям, которые будут эту вашу книжку читать, не шибко нужна ни хроника некоторых литературных проектов, ни срывающийся на крик разбор проблем конфигурирования литературного пространства, и лучше бы, ей-богу, я вам рассказал о преимуществах молочного коктейля над спиртными напитками, о том, как я проехал автостопом всю Европу, о том, как удается двадцать лет прожить вместе с любимым человеком, при этом деятельно исповедуя идеалы свободной любви… Ведь идея-то всего проекта была в том, что человек, сочиняющий стихи, шире и интереснее, чем автор, literary figure, да? С другой стороны, мне про самого себя кажется, что у меня в каком-то смысле все устроено по фрактальному принципу, и мои взгляды и действия в области литературы, в области политики, в области секса и т. д. – совершенно одинаковы по сути. А значит, почему бы и не так, как вышло…
Александр Бараш «Превращаться в то, что больше тебя…»
Бараш Александр Максович (р. 1960, Москва). Окончил филологический факультет Московского государственного педагогического института. Работал школьным учителем, писал тексты песен для группы «Мегаполис». С 1989 года живет в Иерусалиме. Работает журналистом. Переводил с иврита. Член редколлегии журнала «Зеркало», куратор литературного сайта ОСТРАКОН. Лауреат премии Тель-Авивского фонда литературы и искусства (2002), премии журнала « Интерпоэзия » (номинация «Перевод», 2011).
ГОРАЛИК Расскажите про семью до вас?
БАРАШ Можно начать с фамилии. Фамилия – аббревиатура. Ивритская аббревиатура, по первым буквам слов. Бейт-Рейш-Шин: это значит Бен Рабби Шимон. Довольно частый способ образования еврейских фамилий. Рабби Шимон – это был, насколько мне известно, галицийский хасидский деятель где-то конца XVIII века. В иерусалимской телефонной книге – пара разворотов его потомков. Я принадлежу к какой-то весьма боковой ветви. Прапрадед пришел в город Хмельник Винницкой области будучи бродячим торговцем… Прадед Лейб был колесником, столяром, делавшим колеса для телег. У него был дом рядом с базарной площадью, внизу, в полуподвале, – мастерская, наверху, на цокольном первом, и единственном, этаже жила семья, пять детей – три брата, две сестры. Мой дед – третий брат, Шимон, то же имя, что в фамильной аббревиатуре (имена повторялись из поколения в поколение). Он рассказывал, как отец посылал его с братьями в базарный день на площадь зазывать крестьян чинить телеги. Уже в моей жизни на даче под Москвой стоял большой буфет – резные завитушки, львиные морды, – сделанный прадедом. И дед рассказывал, что вот из этого отделения доставался графинчик с наливкой: поднять рюмку по поводу сделки насчет колес. Бабушкин и дедушкин графинчик с вишневой наливкой – одно из лучших детских и отроческих воспоминаний. Может быть, тот самый графинчик? Или рецепт наливки? Такие вещи, кулинарные, бытовые, дольше всего обычно сохраняются… и сохранялись в советской унифицированной жизни. Другие предки тоже из классических мест, местечек: Мирополь Житомирской области, Бердичев, Новгород-Северский. В Мирополь меня еще привозили в середине 60-х, к прадеду и прабабке. Оказывается, родин может быть несколько. Родных у нас же несколько: папа, мама, дедушки, бабушки… У меня первая родина – Москва, вторая – Иерусалим. И дальше, но тоже как родное – Украина… и есть еще, совсем фоном… ну как коврик над постелью из детства – Германия, Страна Ашкеназ, где-то Франкфурт, Вормс… там предки жили в Средние века. Вот этот пейзаж: городок над рекой, несколько шпилей, стена, готические крыши…
Дед по отцовской линии приехал в Москву в начале 30-х. Семья решила сделать его своим красным пролетарием, представителем новой власти. Он же был третьим братом. Старший, первенец – это по традиции была главная любовь и надежда рода, он получил университетское образование еще до революции, второй брат работал с отцом в мастерской, а третьего – с этого момента Семена, а не Шимона – отправили в фабзавуч при котельном заводе, там делали котлы для сахарных фабрик. Лет в тринадцать-четырнадцать из теплого дома – в такую республику ШКИД, колонию для несовершеннолетних, при живых родителях. Они, собственно, и отправили. От ковки котлов он остался на всю жизнь глуховат, от «школы жизни» – почти клинически депрессивен, но необходимость выживания высекла из него бешеную энергию. Через несколько лет он уже был секретарем райкома. И дальше действительно несколько раз спасал отца и семью – когда их пришли раскулачивать, например. Что там было раскулачивать, когда прадед сам работал в этой мастерской и у него работали его сын и зять… На подмосковной даче он меня выводил гулять – я был подростком, – так же он гулял на заре туманной юности, обнявшись с товарищем. И вот мы так, обнявшись, гуляли, в полях, среди ржи и клевера, и он часами рассказывал какие-то совершенно чудовищные истории: раскулачивание, коллективизация, сталинские чистки. Палача и жертву там разлепить было невозможно. Рефлексии с его стороны, впрочем, в этих рассказах практически не было. Просто истории. Главный тон – выживание. Тихий рассказ, без экзальтации. В начале 30-х поехал в Москву… Там шли все время чистки, целые слои сажались… И он попал сначала в еврейскую редакцию газеты «Правда», когда оттуда как раз троцкистов вычистили. И затем пошел по этой газетно-журналистской линии. Высшая точка его карьеры – директор издательства «Рабочая Москва». Ну а затем и его смыло той же волной, которой подбросило. Виндсерфинг своего рода. С акулами. Посадили его старшего брата, того самого «первенца», большого профсоюзного деятеля, а он слетел в отдел рекламы в «Вечерней Москве»… Они жили на Арбате, в Кривоникольском переулке. Там потом встал первый дом Калининского проспекта, где был пивной бар «Жигули» в «мое» время. А теперь – не знаю. Папа родился в 35-м году. Мама тоже. Между ними разница лишь месяц. Отец матери, мой дед Иосиф, был молодым офицером-строителем на Украине. Был репрессирован. Сидел два года. В Шепетовке… типа предварительного заключения. Но не признался, что японский шпион. Потерял зубы, полюбил на всю жизнь преферанс. Мама вспоминала момент, когда он вернулся. Ей было, соответственно, четыре года – это был выпуск легкий пара такой в 39-м, какую-то часть репрессированных выпустили… Вокзал в Киеве. Они его ждут на перроне. Отец выходит из вагона, она бежит к нему, отец берет ее на руки, смотрят друг на друга… Она говорит: «Я помню: у него слезы текут, беззубый рот…» Он шестого года рождения. Вот посчитайте – тридцать лет…