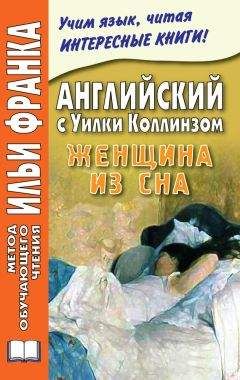Юрий Лотман - Структура художественного текста
Вместе с тем нетрудно увидеть и функциональную общность рифмы в искусстве различных эпох: рифма обнажает многие семантически нейтральные в обычном языковом употреблении грани слова и делает их смыслоразличительными признаками, нагружает информацией, значением. Это объясняет большую смысловую сконцентрированность рифмующихся слов — факт, давно отмечавшийся в стиховедческой литературе.
Как видно из сказанного выше, именно на материале повторов обнаруживается с наибольшей яркостью та более общая эстетическая закономерность, что все структурно значимое в искусстве семантизируется. При этом мы можем выделить два типа повторов: повторы элементов, семантически разнородных на уровне естественного языка (повторяются элементы, принадлежащие в языке плану выражения), и повторы элементов семантически однородных (синонимов; предельным случаем здесь будет повторение одного и того же слова). О первом случае мы уже достаточно подробно говорили. Второй также заслуживает внимания.
Строго говоря, повторение, полное и безусловное, в стихе вообще невозможно. Повторение слова в тексте, как правило, не означает механического повторения понятия. Чаще оно свидетельствует о более сложном, хотя и едином смысловом содержании.
Читатель, привыкший к графическому восприятию текста, видя на бумаге повторяющиеся начертания слов, полагает, что перед ним — простое удвоение понятия. Между тем обычно речь идет о другом, более сложном понятии, связанном с данным словом, но усложненном совсем не количественно.
Вы слышите: грохочет барабан,
Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней,
Уходит взвод в туман, туман, туман,
А прошлое ясней, ясней, ясней…
Второй стих совсем не означает приглашения попрощаться дважды.[103] В зависимости от интонации чтения он может означать: «Солдат, торопись прощаться, взвод уже уходит». Или: «Солдат, прощайся с ней, прощайся навсегда, ты ее больше никогда не увидишь». Или: «Солдат, прощайся с ней, со своей единственной». Но никогда: «Солдат, прощайся с ней, еще раз прощайся с ней». Таким образом, удвоение слова означает не механическое удвоение понятия, а другое, новое, усложненное его содержание. «Уходит взвод в туман, туман, туман» — может быть расшифровано: «Взвод уходит в туман, все дальше, он скрывается из виду». Оно может быть расшифровано и каким-либо другим образом, но никогда не чисто количественно: «Взвод уходит в один туман, затем во второй и в третий». Точно так же и последний стих может быть истолкован как: «А прошлое все больше проясняется», «а (131) прошлое все более понятно, и вот оно достигло ослепительной ясности», и т. д. Но поэт не избрал ни одну из наших расшифровок именно потому, что его способ выражения включает все эти понятийные оттенки. Достигается это постольку, поскольку чем текстуально точнее повтор, тем значительнее смыслоразличительная функция интонации, которая становится единственным дифференциальным признаком в цепочке повторяющихся слов.
Но повторение слов имеет еще одну структурную функцию. Вспомним стих из уже процитированного нами стихотворения А. Блока:
Твой очерк страстный, очерк дымный…
«Очерк страстный» и «очерк дымный» составляют два независимых фразеологических сочетания, одно из которых основано на прямом, а второе — на переносном употреблении. Сочетания «очерк страстный» и «очерк дымный» создают два семантических целых, более сложных, чем механическая сумма понятий «очерк + страстный» и «очерк + дымный». Однако повторение слова уничтожает независимость этих двух сочетаний, связывая их в единое, семантически еще более сложное целое. Два раза повторенное слово «очерк» становится общим членом этих двух сочетаний, и столь далекие и несопоставимые понятия, как «дымный» и «страстный», оказываются единой контрастной парой, образуя высшее смысловое единство, отнюдь не разложимое на смысловые значения входящих в него слов.
Рассмотрим с точки зрения функции повторов стихотворение Леонида Мартынова «О земля моя!»:
О земля моя!
С одной стороны
Спят поля моей родной стороны,
А присмотришься с другой стороны —
Только дремлют, беспокойства полны.
Беспокойство — Это свойство весны.
Беспокоиться всегда мы должны,
Ибо спеси мы смешной лишены,
Что задачи до одной решены.
И торжественны,
С одной стороны,
Очертания седой старины,
И, естественно, с другой стороны,
Быть не следует слугой старины.
Лишь несмелые
Умы смущены
Оборотной стороной тишины,
И приятнее им свойство луны —
Быть доступным лишь с одной стороны.
Но ведь скоро
И устройство луны
Мы рассмотрим и с другой стороны. (132)
Видеть жизнь с ее любой стороны
Не зазорно ни с какой стороны.
Вся система рифмовки в этом стихотворении построена на многократном повторе одного и того же слова «сторона». Причем речь идет здесь о повторе тавтологическом (хотя отдельные семантические «пучки» значений разошлись здесь уже так далеко, что выражающие их слова воспринимаются как омонимы).
Так, уже в первой строфе трижды встречается слово «сторона», причем в одном и том же падеже. Однако, по сути дела, все три раза это слово несет разную нагрузку, синтаксическую и смысловую. Это становится особенно ясным при сопоставлении первого и третьего случая («с одной стороны», «с другой стороны») — со вторым, в котором «сторона» (с эпитетом «родная») синонимична понятию «родина». Однако при внимательном рассмотрении выясняется, что семантика слова в первом и третьем случаях тоже не идентична: ясно, что вводное словосочетание «с одной стороны» не равнозначно обстоятельству места действия «присмотришься с другой стороны». В последнем случае речь идет о стороне как реальном понятии (точка, с которой следует присмотреться) — в первом случае перед нами лишь служебный оборот канцелярского стиля речи, намекающий на то, что мнимый сон родных полей мерещится лишь невнимательному, казенному взгляду, а человек, способный наблюдать действительность, видит даже в неподвижности полноту непроявившихся сил.
Вторая строфа, раскрывающая тему «беспокойства» как важнейшего признака живого, развивающегося мира и адекватной ему — подвижной, диалектической точки зрения, построена на иных повторах («беспокойство — беспокоиться»). Она лишь намеком возвращает читателя к рассматриваемой нами семантической группе «сторона», выделяя из уже встречавшегося и неоднократно повторяемого в дальнейшем сочетании «с одной стороны» слово «одна» («что задачи до одной решены»). Прием этот имеет своей функцией интуитивное поддержание в читательском сознании интересующей нас темы.[104]
В третьей строфе «с одной стороны» и «с другой стороны» синтаксически однозначны. Однако они не однозначны экспрессивно: второе окрашено в тона иронии и звучит как пародирование, «перефразирование» первого. Контрастность этого «с одной стороны» и «с другой стороны» определена еще и тем, что они входят как часть в антитезу: «…торжественны, с одной стороны» — «естественно, с другой стороны». «Торжественны» и «естественно» по месту их в общеязыковой структуре не являются антитезами, так как занимают синтаксически несопоставимые позиции. По контекстному смыслу в наречии «естественно» реализуется лишь семантика типа «конечно».
Но поэтическая оппозиция имеет другую логику: «с одной стороны» — «с другой стороны» воспринимается как нейтрализованная архисема, подчер(133)кивающая контрастную дифференциальную семантическую пару «торжественны» — «естественно». В этом случае в наречии «естественно» раскрывается новый смысл — простота как антитеза торжественности, что, в свою очередь, делит всю строфу на две антитетичные полустрофы. А это, в конце концов, выделяет различие и в прежде приравнивавшемся («с одной стороны» — «с другой стороны»). В данном случае речь идет об интонационном различии: легко заметить, что отрывки будут читаться в разном декламационном ключе. Один должен нести информацию о бюрократической, мертвенной помпезности, другой — о естественной жизни.
В следующей, четвертой строфе тот же фразеологический оборот вводится с отчетливо новым значением. Канцелярскому «с одной стороны», «с другой стороны» противополагается «оборотная сторона тишины» — еще дремлющие, но уже пробуждающиеся силы жизни, которые смущают «несмелые умы». Утверждению революционной динамики жизни «полей родной стороны» «несмелые умы» противопоставляют мысль об односторонности и неподвижности как законах природы: