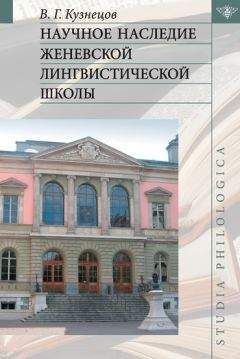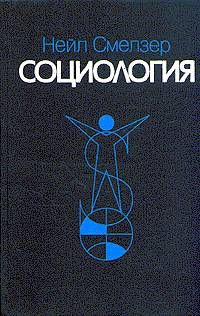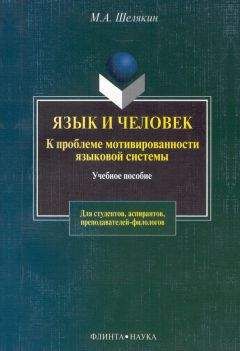Коллектив авторов - Мортальность в литературе и культуре
Граница между миром живых и мертвых у Соколова проницаема. Мертвые посещают живых, и в этом нет ничего сверхъестественного (те и другие воспринимают это как обычное явление):
Скорбно и Зимарь-Человеку жену губить, но и он от решения не отступается. Жаль тебя, он ей плачется, топить ведь везу. А не вез бы, она ему, шельма ветхая, совет подает, сколь годов, оглянись, вместе отбыто. Да вот то‐то и оно, Зимарь сетует, столь годов, что терпеть тебя ни дня более не могу, опостынула. Но прошу, продолжает, в положенье мое войди и зла на олуха не держи особенно. Что уж там, она ему отпускает грех, вольному воля, охулки на руки не клади, только и ты, дружочек, не обессудь: вероятно, обеспокою порой. Не обязательно, говорит, еженощно жди, ну а все‐таки нет-нет да и загляну постращать (с. 209).
В романе смерть выступает как бытовое явление. «Умирать нам отнюдь не в диковину, а по изложенным выше причинам и надлежит» (с. 228), – говорит Илья Петрикеич. Герой может одновременно находиться по эту и по ту стороны границы. Рыбак Николай, например, «пока те деятели с дрекольем веским Николая у околицы ждут… с полмешком осетров серебристых и зеленых склизких линей приближается ходом к пригородам. Мол, поклон тебе, лубяной веселеющий град, исполать вам, высокие расписные тараканьи терема. Приюти, говорит, град, на грядущую ночь убиенного недругами невезучего рыбаря…» (с. 147). Герой называет себя убиенным до того, как его убийство совершилось. Илья Петрикеич, уже будучи мертвым, собирается откопать свои костыли: «Вон как славно все обустраивается, Крылобылу я говорю, стало быть, завтра же надо бы их и отрыть. Стало быть, завтра же и отроем. <…> Точно, старый, зарей и отправимся, правда, заступы наточить бы, неточеными до Судилища проковыряемся: задернело, поди» (с. 260).
Эти примеры иллюстрируют пограничное состояние, в котором пребывает население Заволжья. Живя на границе между двумя мирами, герои сознают их существование и, пересекая Итиль, переносят опыт повседневной жизни на параллельное Итилю пространство Леты. При этом мифологическая природа реки неоднократно подчеркивается (в частности, фамилией лодочника-перевозчика – Погибель). Такая обратимость понятий в оппозициях «быт – святость», «жизнь – смерть» становится реализацией идиоматического заглавия романа, обозначающего сумерки с их размытостью границ и очертаний.
Отношение к смерти в «Между собакой и волком» неоднозначно и амбивалентно. Герои даже не прочь вступить с ней в особые отношения. Все егеря мечтают провести ночь с дамой по имени «Вечная жизнь», зная, что после этого умрут. Слезы по покойнику – не более чем элемент обряда:
Отзвеним неточеными, отболим кумполами дубовыми, отдурим и отпляшем, и отчалим однажды по утрию в Быгодождь. То‐то пито будет во имя нас, то‐то слез лито, то‐то воротов понарвут друг другу приятели на девятый день. Прежде мы провожали, плывя в челноках шумно, а теперь другим пировать следом в стругах, нам же тихо лежать на переднем подошвой врозь (с. 194).
Примером многозначности образа смерти может быть описанный Ильей Петрикеичем морг:
Пора нам, следовательно, в театр. В зарослях особился, под номером раз, дом горбатый. Дом – не дом, а часовня из бывших с ампутированным крестом, и растенья белеющие, ивы что ли, склонились над ней, как анатомы. А табличка старинного начертания вам сообщала: анатомический театр (с. 171).
Устаревшее и неочевидное для современного читателя обозначение «анатомический театр» содержит два семантических компонента. Вначале актуализируется значение «театр». Сюда приходят герои, чтобы посмотреть «артистов» («Показывай давай артистов своих» (с. 171), – говорит Илья санитару в морге) и получить «костюмы»: «Объяснял: поновей туалеты приносят артистам родичи, а обноски с испугу нередко не требуют. Выбрал я тогда себе галифе адмиральское голубое, парадное, выбрал в тот раз чиновничий шапокляк набекрень…» (с. 174). То, что это анатомический театр, становится понятно благодаря второму семантическому компоненту: дом с ампутированным крестом, над которым склонились деревья-анатомы, – мертвая церковь. На фоне балагурства Ильи Петрикеича, свойственного фольклорным сказаниям, такое описание морга делает его странным и страшным для читателя.
Нельзя не заметить, насколько последователен Соколов в реализации кромешного мира, описанного Д. С. Лихачевым:
Вселенная делится на мир настоящий, организованный, мир культуры – и мир не настоящий, не организованный, отрицательный, мир антикультуры. В первом мире господствуют благополучие и упорядоченность знаковой системы, во втором – нищета, голод, пьянство и полная спутанность всех значений. Люди во втором – босы, наги либо одеты в берестяные шлемы и лыковую обувь-лапти, рогоженные одежды, увенчаны соломенными венцами, не имеют общественного устойчивого положения и вообще какой‐либо устойчивости, «мятутся меж двор», кабак заменяет им церковь, тюремный двор – монастырь, пьянство – аскетические подвиги, и т. д. Все знаки означают нечто противоположное тому, что они значат в «нормальном» мире.
Этот мир кромешный – мир недействительный. Он подчеркнуто выдуманный. Поэтому в начале и конце произведения даются нелепые, запутывающие адреса, нелепое календарное указание. <…>
<…>
Изнаночный мир не теряет связи с настоящим миром. Наизнанку выворачиваются настоящие вещи, понятия, идеи, молитвы, церемонии, жанровые формы и т. д. Однако вот что важно: вывертыванию подвергаются самые «лучшие» объекты – мир богатства, сытости, благочестия, знатности372.
Обращение к этой концепции позволяет многое объяснить в поэтике «Между собакой и волком». В частности, становится понятно, почему герои напоминают святых (при этом их поведение далеко от благочестия), почему центральное место в их универсуме занимает «кубарэ», а функцию церкви выполняет морг, почему роман начинается с размывания временных координат: «Месяц ясен, за числами не уследишь, год нынешний» (с. 143). Это «мир-наоборот», «мертвый» мир. В образе рассказчика Ильи Петрикеича обнаруживаются черты, характерные для антигероя кромешного мира: «Антигерой этого мира противостоит родовитому – поэтому он безроден, противостоит степенному – поэтому скачет, прыгает, поет веселые, отнюдь не степенные песни»373. Зынзырелла действительно во многом – герой амбивалентный: он балагур и бродяга, собирает милостыню, распевая песни в поездах, его речь пересыпана непристойными куплетами и стишками: «С дурындой грызусь, частушки ей вспоминаю смачные. Девки спорили на даче, у кого чего лохмаче, оказалось, что лохмаче у хозяйки этой дачи. Заливается – колокольчиком» (с. 231).
Было бы несправедливо говорить о полной реализации «кромешного мира» в романе ХХ в. Между тем выявление его отдельных черт в «Между собакой и волком» объясняет мрачноватую веселость и гармоничный разлад, которые царят в романе, – ведь мир-наоборот последователен и целостен. При этом следует учесть, что гротеск и фантасмагоричность часто вырастают из реальной почвы. Перенесенные в пространство речевой стихии Ильи Петрикеича, они начинают осознаваться как элементы мира, «вывернутого наизнанку»: церковь превращается в морг согласно советской практике.
Функционирование мотива смерти характерно также для стихотворных глав романа – «Записок запойного охотника», принадлежащих перу Якова Ильича Паламахтерова. Во многом они повторяют и обыгрывают события, описанные Ильей Петрикеичем в «Заитильщине». В стихах охотника встречаются описания гибели персонажей, о которых повествовал Зынзырелла:
Утром смотрим – летит Коля-Николай:
Костыли – как два крыла над головой.
Обратился, бедолага, в сокола:
Перепил. И боле не было его.
Нередко в них встречается описание пограничного состояния между жизнью и смертью:
Ты – бродяга, ты – странник,
Лохмотник хромой.
Странен край твой на грани
Меж светом и тьмой,
и приход покойников «с того света»:
Кого это там еще Бог дает —
С лампадою, на коньках…
Никак Аладдин Батрутдинов идет,
Татарина шлет Аллах.
<…>
Проваливай, конек-горбунок,
Ты есть наважденье, хворба души,
Батрутдинов сто лет как йок.
При этом о трупе покойного говорится как о живом человеке:
Упал в промоину, катясь в кино,
И хоть выплыл, да через год:
В карманах чекушка и домино,
И трачен рыбами рот.
Момент смерти здесь не зафиксирован – обнаружение тела через год после гибели приравнено к его самостоятельному выходу из воды с чекушкой и домино в карманах.
Наличие границы между двумя мирами провоцирует обращение Якова Ильича к ситуации ее перехода: