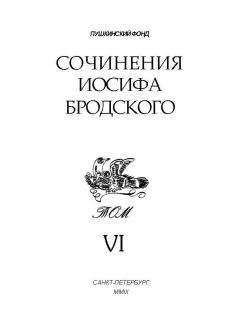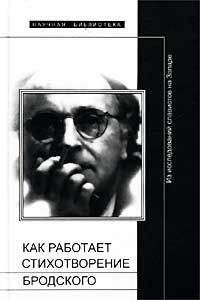Коллектив авторов - Пристальное прочтение Бродского. Сборник статей под ред. В.И. Козлова
Четырнадцатое стихотворение приводит поэтическое сознание к мысли о том, что «перемена мест» губительна для «мелких слагаемых». Последнее четверостишие — своеобразная реакция на собственный поэтический тезис: «И улыбка скользнет… крича жимолостью, не разжимая уст». Немой крик, в виду беззвучности языка, — единственно возможная форма проявления лирического героя.
В пятнадцатом стихотворении мир предстает в виде книги:
…дальше вроде
нет страницы податься в живой природе.
Зазимуем же тут, с черной обложкой рядом.
Позиция наблюдателя, которая была заявлена еще в четвертом стихотворении («Это — ряд наблюдений»), в данном случае оказывается сходной с позицией читателя, для которого мир — в книге «с черной обложкой». И если «нет страницы» для того, чтобы двигаться дальше, значит — книга прочитана. Теперь «неохота вставать» (№ 13). А то, что «никогда не хотелось» — так это, по большому счету, пришлось к слову: c такой позиции легче ужиться с прошлым.
Однако поэтическое сознание находит ту деталь внешнего мира, которая никак не укладывается в концепцию мира-книги.
Если что-то петь, то перемену ветра,
западного на восточный. (№ 18)
Для лирического «я» есть два мира: мир-книга, представленный следом-словом и существующий в ценностном контексте автора-творца, и мир стихии, который лирический герой непосредственно воспринимает. К последнему относится и «перемена ветра». К нему примкнут «моря», «север», «снег», «осень», «дождь», «ветер» и т. д. В этом мире нет следов. Это мир, соприкосновение с которым — какс «холодом» (№ 2) — «учит гортань проговорить «впусти»», т. е. учит слову. Этот мир порождает слово, другой — сам есть слово.
В восемнадцатом стихотворении стреляющий и непопадающий, как кажется лирическому герою, в зайца охотник сравнивается «с пишущим эти строки пером». Поэт всегда «не попадает» в то, о чем он пишет, более того — согласно логике метафоры, посредством слова пишущий лишь «увеличивает разрыв» между оставленным следом и тем, что его оставило, — например, «зайцем».
Человек в художественном мире цикла принадлежит миру-книге, цивилизации, судьба которой определяется более глубокими законами стихии. Лирический герой на фоне стихий — смертен и беспомощен. Уже в первом стихотворении цикла он ничего не мог сделать с «морями, которым конца и края». Лирический сюжет цикла состоит в постепенном зарождении, а затем и выходе на первый план иной концепции мира, в которой автор-творец бессмертен, но сводится к «части речи», остающейся от «всего человека» — лирического героя.
…и при слове «грядущее» из русского языка
выбегают мыши и всей оравой
отгрызают от лакомого куска
памяти, что твой сыр дырявой. (№ 18)
Здесь интересно осмысление образа «русского языка», которое актуализирует противопоставление языку английскому. В приведенном четверостишии «русский язык» — один из ключевых образов, наряду с «грядущим» и «памятью». Именно русское слово «грядущее» порождает образ грызунов и тем самым в каком-то смысле определяет будущее лирического героя. Память героя, его внутренний мир неразрывно связаны с русским языком. Поэтому, если память в грядущем будет скудеть, то же самое будет происходить и с русским языком, и с внутренним миром лирического героя. Забвение родины станет забвением языка.
«Русский язык», лишенный будущего, — образ для Бродского неслучайный. Так в стихотворении «Шорох акации» (1975) уже звучал этот мотив: «Вереница бутылок выглядит как Нью-Йорк. / Это одно способно привести вас в восторг. / Единственное, что выдает Восток, / это — клинопись мыслей: любая из них — тупик…» (III, 107)[118]. А английский язык отождествляется в цикле с настоящим временем внешнего мира чужой земли. У этого настоящего есть будущее, которое не принесет неожиданностей: «За сегодняшним днем стоит неподвижно завтра, / как сказуемое за подлежащим» (№ 6). Или в «Темзе в Челси» (1974): «Больше не во что верить, опричь того, что / покуда есть правый берег у Темзы, есть / левый берег у Темзы. Это благая весть» (1974, III, 77).
Выходит, особенностью русского языка и русского пространства является дискретность, несвязанность отдельных частей. Одна часть русского пространства ничего не говорит о другой. Русская мысль, будучи чувственной, не приводит ни к какому логическому выводу и вовсе не нуждается в логическом продолжении. Та же ситуация проецируется и во времени: настоящее не является логическим продолжением прошлого, соответственно и будущее не будет связано с текущим моментом. В цикле «Часть речи» еще чувствуется тоска по этому отсутствию логики, чувствуется неприятие полной предсказуемости, а значит бессобытийности новой жизни. В своем первом эссе, написанном на английском, поэт ближе к окончанию признается: «Печальная истина состоит в том, что слова пасуют перед действительностью. У меня, по крайней мере, такое впечатление, что все пережитое в русском пространстве, даже будучи отображено с фотографической точностью, просто отскакивает от английского языка, не оставляя на его поверхности никакого заметного отпечатка. Конечно, память одной цивилизации не может — и, наверное, не должна — стать памятью другой»[119].
Скоро, однако, логика английского языка будет принята Бродским, адаптация внесет коррективы и в ценности поэта: «Хотел бы отметить лишь одну вещь как результат моего пребывания в англоязычном окружении: когда я пишу, я ощущаю большую ясность, более высокую долю рационального по сравнению с тем, если бы я был в России, писал в России… В английском есть нечто, что побуждает разъяснять, развивать мысль. И это есть теперь в моих стихах» (1984)[120].
Образ английского языка встретится и в цикле «Часть речи»: «За сегодняшним днем стоит неподвижно завтра, / как сказуемое за подлежащим». Логика американского пространства ставится в зависимость именно от английской грамматики. Внешний по отношению к лирическому «я» мир, выходит, говорит по-английски, а внутренний — по-русски. Однако в «Части речи» намечены предпосылки для преодоления драматической несовместимости в одном человеке логик русского и английского языков. В цикле формируется образ универсального Языка, который стирает национальные различия.
В девятнадцатом стихотворении цикла говорится о том, что язык как таковой неспособен выразить «всего человека». Значит, уже неважно, по большому счету, какому языку принадлежит «часть речи». Именно универсальный Язык становится основанием мира-книги. Это Язык, творящий человеческий мир. Его обретение совершается в плоскости автора-творца, который еще во втором стихотворении ощущал «диктат» «снега»-языка. Однако окончательно образ Языка мог сформироваться лишь, когда было задано и разрешено противопоставление русского языка с английским. Разрешение пришлось лишь на предпоследнее стихотворение.
В контексте ценностного отношения между поэтическим сознанием и языком иначе читается финальный мотив свободы. Безусловно, это будет свобода
читать с любого
места чужую книгу, покамест остатки года,
как собака, сбежавшая от слепого,
переходят в положенном месте асфальт. (№ 20)
Таков бытовой вариант точки зрения «ниоткуда»: не обращая внимания на время, «читать» мир-книгу как заблагорассудится («с любого места»). Такова свобода наблюдателя.
Поэтическое сознание — Абсолют: лики пустотыАбсолютом здесь условно названа невыраженная в цикле прямо универсалия, присутствие которой, однако, угадывается. Она угадывается в той ценностной роли, которую играют для лирического «я» то внешний мир, то язык — в какой-то момент они наделяются в цикле чертами Абсолюта, определяющего нечеловеческую логику мира. Основная характеристика, по которой вообще опознается ценностный контекст Абсолюта, — вненаходимость миру, ценностная первичность по отношению к нему. Абсолют задает ценностную вертикаль миру, в котором ощущает себя поэтическое сознание. Если приглядеться, свойства Абсолюта распознаются в целом ряде образов цикла «Часть речи», что и позволяет вывести этот образ — ни разу, впрочем, не поименованный в цикле — в качестве самостоятельного «другого», присутствие которого поэтическое сознание постоянно ощущает.
Нужно отметить, что тема прямого обращения к Абсолюту в творчестве И. Бродского проходит красной нитью. Из стихотворений близкого периода можно назвать, например, стихотворения «Разговор с небожителем» (1970), «Бабочка» (1972), «Лагуна» (1973), «Темза в Челси» (1974), «Колыбельная Трескового мыса» (1975) и др. Образ Абсолюта ассоциируется в первую очередь с образом Бога. Действительно, Бродский активно разрабатывал эту тему. Так, последнее стихотворение Бродского, написанное в России, — это посвященное Анне Ахматовой «Сретенье» (март, 1972). Интерес к библейскому сюжету в данном случае показателен сам по себе. После этого до 1980 года место Бога в творчестве Бродского занимает «Ничто». Имя Бога никуда не уходит из текста стихотворений, однако его не встретить в сильных местах. Исключение составляет только стихотворение «Темза в Челси» (1974), где телефонная связь с Богом в финале стихотворения оборачивается неизбежным «занято» — т. е. здесь мотив отсутствия так же превалирует над другими. Часто в этот период имя Бога используется в выразительно-изобразительных функциях (например, «Двадцать сонетов Марии Стюарт» (1974)). В 1972 году прервалась также традиция поэта писать рождественские стихи, которая возобновляется только в 80-х. Своеобразным переходом от Ничто обратно к Богу становится «благодарность» — мотив, который открывает период творчества 80-х годов. Этот мотив выражен в первом же стихотворении этого периода — «Я входил вместо дикого зверя в клетку» (1980).