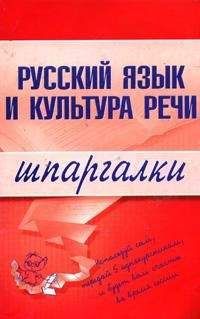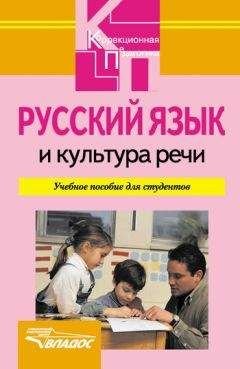Александр Гуревич - «Свободная стихия». Статьи о творчестве Пушкина
Вообще, как проницательно заметил Н. Я. Берковский, неожиданный поворот сюжета, столь характерный для классической новеллы, играет у Пушкина принципиально иную роль. Он означает не победу новых начал, вторгающихся в привычный, сложившийся жизненный уклад, но, напротив, торжество старого, традиционного, устоявшегося [10. С. 257, 264]. Игра случая, поясняет далее свою мысль исследователь, нужна совсем не блестящему гусарскому полковнику Бурмину, но бедному прапорщику Владимиру. Однако случай, «этот бог классической новеллы», помогает именно Бурмину! (см. [10. С. 292–293]).
Скажем определеннее: в изображаемой Пушкиным патриархальной среде словно перестают действовать законы реальной жизни. Бреттер не убивает здесь своего врага, обвенчанная и брошенная девушка находит мужа, соблазненная гусаром девица благополучно устраивает свою судьбу (см. [11. С. 549]), непримиримые враги легко мирятся и становятся родственниками (а в «Дубровском», напротив, насмерть ссорятся лучшие друзья) и т. п. И такого рода «игрушечные развязки» (А. Ахматова) драматических происшествий, безвыходных, казалось бы, ситуаций еще более сгущают сентиментально-идиллический колорит повестей.
Полупасторальный белкинский мир, таким образом, может быть назван и антиподом идеально-романтического мира южных поэм, и – как противоположность раздираемой трагически-неразрешимыми противоречиями peaльной действительности – своеобразным его аналогом. Однако же его идилличность – это лишь одна сторона дела, воплощение только одной грани пушкинской позиции.
В представлении Пушкина, белкинский мир – это мир, лежащий где-то на обочине исторического движения, практически выключенный из него. Это, так сказать, культурная и духовная провинция, населенная смирными или смирившимися людьми, чье сознание не развито и наивно, а культурный кругозор ограничен. Главное же – это сфера сугубо частной жизни, семейного уюта, «мещанского счастья» (ср. в «Моей родословной»: «Я сам большой, я мещанин»). Неудивительно, что и в белкинских повестях, и в последующих произведениях тихая, мирная жизнь «старинных людей» представлена как мелкомасштабная, как уменьшенное подобие подлинной жизни (И. М. Тойбин верно заметил, что сцены в Белогорской крепости напоминают отчасти кукольный театр [12. С. 231]). Вот почему изображение уютной игрушечности патриархального мира освещено доброй и снисходительной авторской усмешкой, окрашено легкой, мягкой иронией, неизменно окутывающей ткань повествования.
Но пушкинская ирония в «Повестях Белкина» имеет еще и другой – скрытый, трагический смысл. И тут нужно снова вернуться к раздумьям Пушкина о судьбах родовой русской аристократии.
Неминуемое уравнение, даже слияние потомственного дворянина-аристократа с людьми «третьего состояния» представлялось Пушкину исторической неизбежностью, а в то же время и некоей аномалией – чем-то противоестественным и странным. Ведь оно означало, что на тихое, скромное, сугубо частное – и в этом смысле мнимое – существование обречены теперь потомки некогда славных исторических боярских родов, что «мещанином» становится поневоле человек, чье естественное призвание – ответственная и активная государственная деятельность!
Но если аристократ становится мещанином, то и наоборот: мещанин становится аристократом – ситуация, с точки зрения поэта, абсурдная, выражающая неразумность, иррациональность исторического процесса. Со всей прямотой об этом сказано в «Моей родословной», написанной той же болдинской осенью 1830 г.:
Бояр старинных я потомок;
Я, братцы, мелкий мещанин.
Подчеркнутая оксюморонность этой горько-иронической формулы, сочетание в ней явно несоединимых, взаимоисключающих начал точно передают смысл пушкинской позиции, нашедшей свое воплощение и в «Повестях Белкина».
И эта ее глубинная суть определяет главнейший художественный принцип белкинского цикла: парадоксальное столкновение противоположностей, их взаимопогашение и отрицание, рождающее в итоге «нулевой эффект», лукавую игру фикциями и «мнимостями».
Действительно, создавая образ идиллического патриархального мира, Пушкин тотчас же ставит под вопрос само его существование, настойчиво подчеркивает его условность, миражность, призрачность. Не в этом ли смысл демонстративного пушкинского отказа от авторства в пользу мнимого автора – Ивана Петровича Белкина? Однако и образ Белкина, как показал С. Г. Бочаров, в значительной мере фиктивен. Во-первых, он составлен из свойств, либо нарочито нейтральных, означающих главным образом отсутствие тех или иных качеств, либо свойств, прямо противоположных, друг друга уничтожающих (см. [7. С. 142–143]). Перед нами, в сущности, «тень покойного автора», «колебание между призраком и лицом» [7. С. 132, 145]. Во-вторых, что еще существеннее, его авторство тоже может быть названо фиктивным. Ведь по «недостатку воображения» Белкин не сам сочинял повести, а лишь записывал истории, слышанные «от разных особ». Но и рассказы «разных особ» состоят в значительной мере из пересказов происшествий и эпизодов, слышанных от других лиц. В итоге возникает целая цепочка, вереница рассказчиков, не позволяющая выделить главного, основного автора рассказываемых историй [7. С. 156].
Этой же цели служит и организация речи многочисленных рассказчиков. С одной стороны, как отмечал В. В. Виноградов, между ними безусловно ощутимы определенные различия. С другой – столь же очевидна тенденция к нивелировке стиля, реалистически мотивированная образом Белкина как «посредника» между «издателем» и отдельными рассказчиками [13. С. 538]. Иначе говоря, фикцией оказывается лицо, ответственное за достоверность рассказа, что никоим образом не вяжется с установкой на «справедливость» и даже документальность повествования.
Фиктивными, мнимыми могут быть названы, наконец, и сюжеты пушкинских «псевдоновелл» («Пушкин пишет новеллы, полемизируя с самим жанром их», – замечает Н. Я. Берковский [10. С. 264]) – рассказы о несвершившихся событиях, представляющие к тому же пародийно-ироническую обработку расхожих сентиментально-романтических мотивов.
«Не будет ни страшной смерти гробовщика, задушенного мертвецами, – писал по этому поводу В. В. Гиппиус, – ни самоубийства несчастной жертвы своего заблуждения; ни трагедии молодого барина, влюбившегося в крестьянку; ни жестокой мести по праву дуэли, oтложенной до времени, когда противник будет счастлив; ни тайного брака двух влюбленных; ни отчаяния героини, разлученной с возлюбленным» [14. С. 36–37].
И вся эта сложная система взаимоотрицаний, «нулевых эффектов», столкновения противоположностей, вся эта прихотливая, изменчивая, капризная структура повестей, ироническая авторская игра несоответствиями, противоречиями, фикциями приоткрывает на миг и тут же снова скрывает главную «тайну» всего цикла – мнимость смирения маленького человека.
Действительно, как ни случайны вспыхивающие в повестях конфликты, все же в каждой из них неотвратимо возникают драматические ситуации, создающие напряжение между идиллическим фоном повествования и остротой сюжета, между незыблемостью традиционных жизненных норм и постоянными покушениями их поколебать. Более того, ситуации эти таят в себе «роковые возможности», рождают ощущение, что «финальные аккорды их (повестей. – А. Г.) не являются единственно возможными, что предположительны и другие исходы» [15. С. 15, 18].
Тут-то и выясняется, что в решительные минуты жизни, когда их счастье, честь, элементарные человеческие права поставлены под угрозу, добрые, мирные герои повестей точно преображаются. В них пробуждается чувство собственного достоинства, независимость, даже непокорство, а главное – готовность к безоглядно смелым, отчаянным поступкам, решительным действиям: «Безродный офицер состязается напряженно и безнадежно с родовитейшим аристократом – “Выстрел”, захудалый прапорщик увозом берет невесту из богатой помещичьей усадьбы – “Метель”, “незнаемая девушка” с дальней почтовой станции приходит в Петербург за счастьем и здесь умеет отстоять себя – “Станционный смотритель”, там же, в “Смотрителе”, отец девушки ведет неравный спор с ее соблазнителем, богатым и знатным; молодой барин готов не сегодня-завтра соединить свою судьбу с той, кого он считает крестьянкой, с мнимой Акулиной, – “Барышня-крестьянка”» [10. С. 263–264].
Другое дело, что идиллическая атмосфера белкинского мира не дает развиться росткам своеволия и непокорства, что она нейтрализует мятежные порывы. Она побуждает персонажей как можно скорее войти в привычную колею, нормальное жизненное русло, «отменяет» их бунт, делает его бессмысленным и ненужным. Таким образом, и бунт, и смирение героев равно выступают как своего рода «мнимости». Художественной реальностью является их взаимодействие: постоянно возникающие вспышки своеволия и непокорства, разрешаемые в ничто.