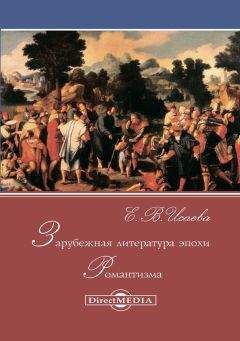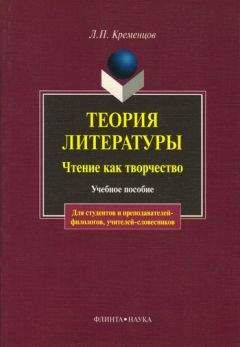Владимир Алпатов - Волошинов, Бахтин и лингвистика
А вот пример из пьесы Китасиро Ацуси «Дьявол трудолюбив»: Otoosama wa zunzun o-aruki ni natta 'Твой отец быстро ходил'. Здесь имеется та же самая форма вежливости по отношению к «герою», но нет суффикса вежливости по отношению к слушателю. В примере мать говорит с дочерью о своем муже. Следовательно, вежливость должна выражаться только к «герою». Возможны и обратные ситуации, когда вежливость выражается только к собеседнику. Например, в приведенной выше ситуации разговора супругов жена, говоря о своих действиях, должна употреблять формы вроде Kaerimasu 'Приеду'.
Итак, если бы при написании статьи «Слово в жизни и слово в поэзии» использовались более совершенные описания японского языка, то автор (авторы?) мог (могли?) бы получить больше информации в подтверждение высказанных в ней идей. Выше в статье сказано: «Всякое действительно произнесенное (или осмысленно написанное), а не дремлющее в лексиконе слово есть выражение и продукт социального взаимодействия трех: говорящего (автора), слушателя (читателя) и того, о ком (или о чем) говорят (героя)» (72). Эта фраза кажется специально написанной для применения к японскому языку, прежде всего к системе глагола, хотя, разумеется, при написании статьи этот язык совсем не имелся в виду. Отмечу, что в японском языке имеется немало и лексических средств выражения тех или иных видов социальных взаимодействий.
Теперь следует сказать о «степени близости друг к другу» «героя и творца». В японском языке нет противопоставления инклюзива и эксклюзива (кстати, оно есть в другом языке Японских островов – айнском). Замечу, что типология выражения этих отношений в языках рассмотрена в замечательных и недооцененных в нашей лингвистике статьях.[282] Нет там и грамматической категории лица и согласования по лицам. Однако там есть особая грамматическая категория (выражаемая аналитически, конструкциями со вспомогательными глаголами, обычно с первичным значением давать или получать), имеющая прямое отношение к данному типу значений. В отечественной японистике она была выделена в,[283] где была названа категорией центростремитель-ности – центробежности.
Формы такого типа показывают «степень близости» между говорящим и двумя «героями» высказывания: деятелем (субьектом) и адресатом действия. Центростремительные формы показывают, что действие направлено в сторону говорящего, то есть адресат ближе к говорящему, чем деятель (адресат чаще всего – сам говорящий). Значение центробежных форм прямо противоположно. Значения цент-робежности и центростремительности накладываются на значения вежливости по отношению к «герою»: среди вспомогательных глаголов есть вежливые и невежливые. Например, Tazunete kudasaru n deshitara nichiyoobi ga ii desyoo 'Если (вы ее) посетите, то, вероятно, лучше всего (это сделать в) воскресенье' (Исикава Тацудзо). Речь идет о действиях малознакомого собеседника по отношению к родственнице говорящего: употреблена конструкция из деепричастной формы глагола tazuneru 'посещать' и центростремительного вспомогательного глагола kudasaru. В той же сцене из романа Мацумото Сэйтё, где муж разговаривает с женой, он говорит: Kono tsugi tsurete kite ageyoo 'В следующий раз возьму (тебя) вместе (с собой) . Здесь употреблена форма центробежного глагола ageru.
Итак, оказывается, что о формах вежливости японского языка в статье 1926 г. речь зашла не зря. При очень ограниченном представлении автора (авторов?) ее о японском языке концепция «Слова в жизни и слова в поэзии» оказывается хорошо применимой для разных явлений данного языка. Это свидетельствует о плодотворности концепции.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА МФЯ
Эта глава посвящена главной проблеме книги: анализу лингвистических идей МФЯ. При этом трактовка истории лингвистики в МФЯ уже разобрана в первой главе книги, а вопрос о построении марксистской лингвистики вынесен в четвертую главу.
III.1. Проблемы лингвистической методологии в первой части МФЯ
Как уже говорилось, я не претендую на освещение всей проблематики МФЯ. Особенно это относится к первой части, выходящей по кругу затронутых проблем далеко за рамки науки о языке. Недаром у нас эта часть изучается и комментируется гораздо больше, чем остальные. Например, в издании[284] комментарий к первой части почти вдвое больше комментария к двум другим частям вместе. Сами авторы пишут, что «все разбираемые в этой главе проблемы – философские» (252). Тем не менее первая часть имеет непосредственное отношение к теории языка, прежде всего, в связи с содержащимися в ней концепцией знака и обоснованием социологического подхода к языку.
III. 1.1. Концепция знака в МФЯ
Во второй главе я уже отмечал, что концепция знака отсутствовала на первых этапах работы над МФЯ и была добавлена не ранее мая-июня 1928 г. (вероятнее, летом того же года). Понятие знака проходит через всю первую часть книги, лишь эпизодически встречается во второй и отсутствует в третьей.
Понятие знака вводится в самом начале первой части МФЯ: «Все идеологическое обладает значением: оно представляет, изображает, замещает нечто вне его находящееся, т. е. является знаком. Где нет знака – там нет и идеологии. Физическое тело, так сказать, равно себе самому – оно ничего не означает, всецело совпадая со своей природной единичной данностью. Здесь не приходится говорить об идеологии» (221). Пока отвлечемся от термина «идеология», ис-пользуемого нестандартно. Но термин «знак» используется вполне в обычном смысле. См., например, стандартное определение знака в БСЭ (автор статьи «Знак» – Б. В. Бирюков): «Материальный предмет (явление, событие), выступающий в качестве представителя некоторого другого предмета, свойства или отношения и исполь-зуемый для приобретения, хранения, переработки и передачи сообщений (информации, знаний)».[285]
Далее говорится о том, что и физический предмет, и орудие производства, сами по себе знаками не являющиеся, могут быть превращены в знаки, если им приписывается некое отражение или замещение: «таковы серп и молот в нашем гербе» (222). «Таким образом, рядом с природными явлениями, предметами техники и продуктами потребления существует особый мир – мир знаков. Знаки также – единичные материальные вещи и, как мы видели, любая вещь природы, техники или потребления может сделаться знаком, но при этом она приобретает значение, выходящее за пределы ее единичной данности. Знак не просто существует как часть действительности, но отражает и преломляет другую действительность, поэтому-то он может искажать эту действительность или быть верным ей, воспри-нимать ее под определенным углом зрения и т. п. Ко всякому знаку приложимы критерии идеологической оценки (ложь, истина, пра-вильность, справедливость, добро и пр.). Область идеологии совпадает с областью знаков. Между ними можно поставить знак равенства» (222). Все это также совпадает с обычными представлениями о знаке. Подчеркивается двуплановость знака: это одновременно и «отражение, тень действительности», и «материальная часть самой этой действительности» (223).
Знак – социальное явление: «Необходимо, чтобы два индивида были социально организованы, – составляли коллектив: лишь тогда между ними может образоваться знаковая среда» (225). «Действи-тельность идеологических явлений – объективная действитель-ность социальных знаков. Законы этой действительности суть законы знакового общения, определяемые непосредственно всей совокуп-ностью социально-экономических законов» (226).
Определив общий подход к знаку, авторы МФЯ переходят к анализу важнейшего вида знака—языкового знака: «Нигде этот знаковый характер и эта сплошная всесторонняя обусловленность общением не выражена так ярко и полно, как в языке. Слово – идеологичеекий феномен par excellence. Вся действительность слова всецело растворяется в его функции быть знаком. В нем нет ничего, что было бы равнодушно к этой функции и не было порождено ею. Слово—чистейший и тончайший medium социального общения» (226). Уже в связи с этой цитатой встает вопрос о том, что здесь понимается под словом. С одной стороны, сюда хорошо подставляется слово в обычном лингвистическом смысле: «наиболее типичным языковым знаком является слово».[286] Но с другой стороны, уже в статье «Слово в жизни и слово в поэзии» мы сталкивались с тем, что слово может пониматься в более широком и неопределенном смысле. Здесь речь скорее идет о любом языковом знаке.
Но языковой знак отличается от всех других одним фундаментальным свойством: «Слово является не только наиболее показательным и чистым знаком, слово является, кроме того, нейтральным знаком. Весь остальной знаковый материал специализирован по отдельным областям идеологического творчества… Слово же – нейтрально к специфической, идеологической функции. Оно может нести любую идеологическую функцию: научную, эстетическую, моральную, религиозную. Кроме того, существует громадная область идеологического общения, которая не поддается приурочиванию к какой-либо идеологической сфере. Это – общение жизненное… Материалом жизненного общения является по преимуществу елово. Так называемая разговорная речь и ее формы локализованы именно здесь, в области жизненной идеологии» (226–227). И здесь под «словом» имеется в виду языковой знак самого разного рода. Несомненна здесь связь с проблематикой «Слова в жизни и слова в поэзии». К понятию жизненной идеологии мы вернемся в следующей главе.