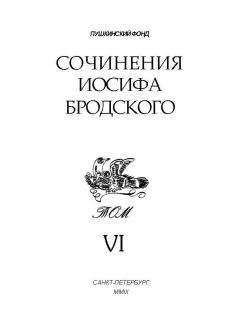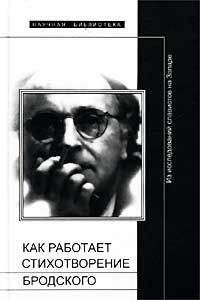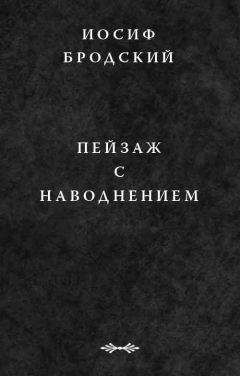Коллектив авторов - Пристальное прочтение Бродского. Сборник статей под ред. В.И. Козлова
Невыносимость, невозможность полного отстранения здесь уже заявлена прямо. Внутри своего дома суть отстранения — одиночество. А сойти с ума можно и внутри, и снаружи.
Семнадцатое стихотворение:
Итак, пригревает. В памяти, как на меже,
прежде доброго злака маячит плевел. (№ 17)
Образ «плевела» в пространстве памяти актуализирует мотив ее разрушаемости, неподвластности человеку. Далее в стихотворении мотив разворачивается:
Можно сказать, что на Юге в полях уже
высевают сорго — если бы знать, где Север.
Понятно, что лирический герой не на Юге, — ранее лирический герой замерзал, ступал по льду и заявлял, что «холод меня воспитал» (№ 2). Однако оказывается, что он и не на Севере. Отчасти ситуацию разъясняет логика художественного времени в цикле, которое движется от зимы к лету, хотя порой нелогично перемежается осенью (например, № 3). Когда начинает пригревать, место, в котором лирический герой находится, перестает быть Севером, но еще не стало Югом. Однако эта логика не отменяет другой.
Север, который «воспитал» лирического героя, напрямую ассоциируется с его родиной. И если во втором стихотворении лирический герой еще жил своим прошлым и переживал потерю того, что было в прошлом, то к семнадцатому стихотворению эта драма уже в той или иной степени преодолена. Отступление зимы может пониматься как знак перемены в ценностной позиции поэтического сознания.
Далее в стихотворении двумя строками создается весенний деревенский пейзаж. Герой жмурится от «слепящего солнечного луча» и, «зажмурившись», «внезапно» «видит» картину смерти:
…И крепко
зажмурившись от слепящего солнечного луча,
видишь внезапно мучнистую щеку клерка,
беготню в коридоре, эмалированный таз,
человека в жеваной шляпе, сводящего хмуро брови,
и другого, со вспышкой, чтоб озарить не нас,
но обмякшее тело и лужу крови. (№ 17)
Вопросов возникает много: чья это смерть? откуда это видение? кого «нас» могла бы озарить «вспышка» фотоаппарата?
Можно попытаться распутать этот — не самый ясный — образ, ориентируясь на постоянные мотивы цикла. Случайное видение смерти может быть истолковано как видение автором-творцом смерти лирического героя. «Тело» и «лужа крови» — атрибуты лирического героя. А «мы» («нас»), которых не задевает вспышка фотоаппарата, — это автор-творец и его адресат-читатель, которые существуют в ином измерении, где смерти нет. Вспышка в памяти озаряет перспективу смерти человеческого начала и бессмертия начала творческого, языкового.
Случайное видение смерти — это тот самый «плевел» будущего в памяти, который попадается в хороший солнечный день. Картина явно вызвана как раз «слепящим солнечным лучом», который вызвал у лирического героя ассоциацию с ослепляющей фотовспышкой. Однако примечательно, что смерть изображена здесь как смерть некоего «тела», казалось бы, не имеющего отношения к лирическому «я».
Посетившее лирического героя видение отчасти перекликается с восклицанием без восклицательного знака, которым заканчивается первое четверостишие стихотворения: «Если бы знать, где Север». Образ «Севера» здесь явно перекликается с «восточным концом Европы» (№ 13). В этом контексте смерть читается и как перспектива забвения русского прошлого.
В восемнадцатом стихотворении впервые в цикле автор-творец прямо заявляет о своих эстетических предпочтениях.
Если что-нибудь петь, то перемену ветра,
западного на восточный.
Эстетическая программа, которая в поэтическом виде представлена в этих строках, перекликается с теми мыслями, которые И. Бродский прямо высказывает в своей Нобелевской лекции (1987): «…Выражая вам благодарность за решение присудить мне Нобелевскую премию по литературе, я, в сущности, благодарю вас за признание в моей работе черт неизменности, подобных ледниковым обломкам…»[113]. По мысли поэта, присутствие человека в пространстве абсолютно случайно: «Вообще, с точки зрения пространства, любое присутствие в нем случайно, если оно не обладает неизменной — и, как правило, неодушевленной — особенностью пейзажа: скажем, морены, вершины холма, излучины реки»[114]. Присутствие и проявление случайного в постоянном — это предмет постоянного интереса поэта.
Тезис в начале восемнадцатого стихотворения фактически говорит о том, что только природные перемены стоят того, чтобы складывать о них песни, поскольку они являются воплощением природного постоянства. Человеческие перемены не имеют той же ценности, поскольку они постоянства лишены. Далее в стихотворении разворачивается сложная метафора творческого процесса:
В полдень можно вскинуть ружье и выстрелить в то, что в поле
кажется зайцем, предоставляя пуле
увеличить разрыв между сбившимся напрочь с темпа
пишущим эти строки пером и тем, что
оставляет следы. (№ 18)
Человек наряду с «зайцем» входит в число тех (того), кто (что) «оставляет следы». Он настолько же случаен, как и заяц, который, убежав, сводится к своим следам. Однако, что это за «разрыв» между «пером» и «тем, что оставляет следы»?
Любая связь здесь кажется неочевидной, однако выше уже был затронут образ следа в контексте художественного мира цикла. След — это то, что остается, когда некто или нечто, оставившее след, уходит (№ 4). След — это в том числе слово. Чем дальше некто уходит и чем больше времени проходит после ухода, тем более увеличивается разрыв между следом и существом, его оставившим.
Этот разрыв приравнивается к разрыву между настоящим и прошлым. Перо — это как раз то, что оставляет языковые следы, увеличивая тем самым разрыв между словом-следом и человеком, который оставляет след посредством пера. За образом пера, таким образом, стоит образ человека. Выстрел «в то, что в поле / кажется зайцем» может означать попытку добраться до того, что следы оставляет. Однако, если разрыв «увеличивается», значит — выстрел обречен на промах. Обречена на провал попытка выразить нечто живое в слове-следе — между выражаемым и выражающим навсегда полагается временной, а значит ценностный «разрыв». О причине, в итоге, можно судить только по следствию, которое имеет обыкновение причину искажать.
Онтологического разрыва между выражаемым и выражающим можно избежать только в одном случае — если «петь перемену ветра, западного на восточный». Язык, слово причастны материи внешнего мира; именно язык способен передавать истину о внешнем мире. Когда же в отношения внешнего мира и языка вклинивается человек, он, оставляя след, обречен на редукцию всего собственно человеческого для любого адресата, кроме себя самого. Восемнадцатое стихотворение заканчивается образом, который показывает ситуацию автокоммуникации: подставленное под «собственный голос» «ухо».
Предпоследнее стихотворение цикла начинается с многоточия, подразумевающее, что в цикле могло быть сколь угодно много стихотворений, однако они не добавили бы ничего принципиально нового. Личная драма лирического героя изжита. Автору творцу достаточно подвести итоги, которые фактически сходятся в одну точку.
…и при слове «грядущее» из русского языка
выбегают мыши и всей оравой
отгрызают от лакомого куска
памяти, что твой сыр дырявой.
«Русский язык» впервые появляется как образ языка, на котором пишется цикл-послание, на котором лирический герой разговаривал в прошлом, посредством которого он вспоминает. Однако «грядущее» уничтожает эти «лакомые» воспоминания. В «русском языке» слово «грядущее» фонологически ассоциируется с грызунами, «мышами», в образе которых будущее точит «сыр» памяти. То есть будущее в каком-то смысле определяется языком.
Остаток стихотворения является итогом всего цикла-послания:
После стольких зим уже безразлично, что
или кто стоит в углу у окна за шторой,
и в мозгу раздается не неземное «до»,
но ее шуршание. Жизнь, которой,
как дареной вещи, не смотрят в пасть,
обнажает зубы при каждой встрече.
От всего человека вам остается часть
речи. Часть речи вообще. Часть речи. (№ 19)
Сначала две строки о «безразличии» к происходящему и его сюрпризам подводят итог ценностной эволюции лирического «я». Безразличие — итог и составляющая спасительного, но одинокого «отстранения». Но если раньше позиция автора-творца была способом уйти от человеческой драмы, то теперь этот опыт доводится до своего логического — метафизического — конца. Вся «жизнь» — драма, поскольку «обнажает зубы при каждой встрече». Понимание этого лишает оптимизма и излишних надежд: «неземное «до»» в мозгу заменяется «шуршанием» мышей, грызущих «сыр памяти». Значит логично отстранение от жизни целиком. Однако жизнь дана, ее не выбирают и не судят («не смотрят в пасть»). Но ей пытаются противостоять. «Отстранение» — «ненастоящий конец войны» (№ 9), это и есть война. Однако поскольку оно оставляет человека наедине с языком, в этой войне «от всего человека вам остается часть / речи» — след, который он может успеть оставить. «Часть речи» — бессмертное воплощение человека, которое на самом деле от него не оставляет ничего собственно человеческого. Преображает его в несамостоятельный элемент грамматики.