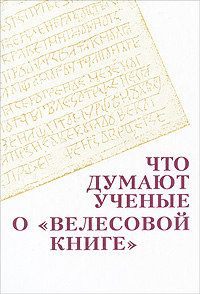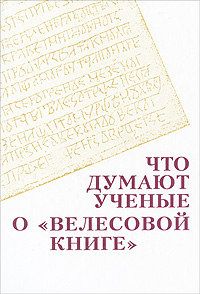Александр Мелихов - Былое и книги
Когда-то и я так думал. И очень хотел бы, чтобы это и в самом деле было так. Чтобы разъединяла народы только политика, а культура лишь объединяла. Разумеется, я говорю о культуре не в широком смысле этого слова, как решительно обо всем, что наследуется внебиологическим путем, включая металлургию и кулинарию, но лишь о культуре духовной, которая есть не что иное, как система коллективных иллюзий, вырабатываемая каждой нацией и социальной группой прежде всего для экзистенциальной защиты, защиты от ужаса, безобразия и скуки жизни. И поэтому каждая национальная культура (я говорю не об элитарных «вершках», а о полубессознательных массовых корнях) зиждется на вере в собственную избранность или, по крайней мере, в принадлежность к какому-то избранному сообществу, которое непременно должно быть узким, иначе оно перестанет быть избранным. Именно поэтому национальные конфликты и порождаются прежде всего столкновением национальных культур – столкновением национальных иллюзий. Столкновением, которое диалоги могут только обострять, поскольку ни одна сторона не может доказать, что ее мама лучше всех, зато любые рациональные опровержения этой веры могут не разубеждать, но только оскорблять.
И политики отнюдь не порождают национальную вражду, они в худшем случае ее только концентрируют, а в лучшем даже умеряют, в риторике подыгрывая народу, чтобы не утратить популярности.
В высокую культуру эти «предрассудки» в открытом виде проникают гораздо реже, но и она не может оставаться совершенно безгрешной, будучи в конечном счете порождением всего народа. А не только личного творчества. Вспомним, что писал Достоевский о поляках и евреях, Гоголь о них же, прибавляя карикатурных немцев, да, собственно, в нашей великой литературе не сразу и отыщешь образ инородца, выписанный с любовью. Даже у Толстого, романтизирующего кавказцев, французский язык используется для изображения всего «неестественного» (это притом что в социальном мире искусственно все).
Это не наша российская особенность – таковы все национальные культуры: каждый народ создает их для собственной, а не чужой экзистенциальной защиты. И если его национальная культура начинает вытесняться более развитой, блистательной и престижной культурой, то при всем несомненном обогащении народ станет терять все-таки больше, чем приобретает: у него будет нарастать чувство, что его предки не сумели создать ничего выдающегося.
В литературе это особенно заметно: если какой-то народ будет видеть в литературе Ромео и Джульетту, Онегина и Татьяну, но не будет видеть самого себя, у него станет нарастать ощущение, что он просто-таки не существует в вечности, что жизнь его не достойна воспевания. Поэтому, как ни грустно, это абсолютно неизбежно, что когда-то в России и Германии боролись с французским языком, в сегодняшней Украине борются с русским, а в одной из культурных прибалтийских стран недавно вызвала протест даже постановка «Бориса Годунова». Это, собственно говоря, и есть борьба за импортозамещение в культуре, или, выражаясь тем же рыночным языком, защита отечественного товаропроизводителя.
Да что заглядывать к соседям! Если бы в пору нашей молодости Шукшин был вытеснен каким-то более крупным писателем, скажем, Фолкнером, Трифонов – Прустом, а Распутин – Гамсуном, возможно, и советская власть до сих пор бы стояла: у нас не было бы стимула любить и отстаивать страну, в которой бы мы не видели ничего красивого и значительного.
К счастью, в те времена Шукшина не оттеснял Фолкнер, которого было очень трудно добыть и еще труднее понять: при всех наших нехватках и унижениях у нас не было ощущения, что мы живем во второразрядной державе, которой еще ползти и ползти до звания «нормальной», то есть заурядной страны. Мы не сомневались в своей ценности, а потому и ценили писателей, в зеркале которых видели себя. Но сегодня в тени саморазрушительной химеры о нашей второсортности разрослась еще и гибельная сказка об упадке нашей литературы, хотя талантов сейчас ничуть не меньше, чем было сорок лет назад и будет через следующие сорок лет. Именно для одоления этой клеветнической выдумки и необходимо защищать современную русскую литературу. Для этого совсем не нужно искусственно тормозить иностранную – достаточно каждому толстому журналу назвать десяток достойных поддержки российских авторов, а их произведения при помощи государственных структур разослать хотя бы по библиотекам более или менее крупных городов и университетов, одновременно выделив на местных и федеральных телеканалах обязательное время для встреч не только с любимчиками тамошнего начальства, но и с каждым из выдвиженцев. Притом не раз и не два, с презрением пропуская мимо ушей лакейскую демагогию о «рейтингах». Государство должно служить не прибыли, а вечности.
Собственно, организационных форм можно придумать множество, если только понять: каждое новое поколение должно видеть себя в новом зеркале, иначе в истории народа возникают опаснейшие пустоты.
Свободные женщины
И все-таки, сколько ни клейми Нобелевскую пробирную палату фабрикой фальшивого золота, из года в год ставящей свое клеймо на латуни, но десятилетия всеобщего подобострастия сделали свое дело: видишь бренд «НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ 2007» – и тут же чувствуешь подлость во всех жилах, как признавался Пушкин после встречи с императором. Вдруг я чего и пропустил?.. («А ты всего Ленина читал?!» – когда-то пресекали наши робкие попытки ревизионизма правоверные коммунисты). А тут еще издательская аннотация: «Эпохальный роман, по праву считающийся лучшим произведением знаменитой английской писательницы Дорис Лессинг…»
Итак, Дорис Лессинг, «Золотая тетрадь» (СПб., 2009). На супере бледное женское личико, утонувшее в корневой системе волос, полуприкрывших обнаженную грудь, – этакая «Майская ночь, или Утопленница». Объем – полтора «Воскресения» с довеском, о цене умолчу, чтобы издательство не заподозрило, что платит мне слишком много.
Первая глава – «Свободные женщины».
«Женщины были одни в лондонской квартире.
– Дело в том, – сказала Анна, когда ее подруга, поговорив по телефону на лестничной площадке, вернулась в комнату, – дело в том, что, насколько я понимаю, все раскалывается, рушится.
Молли всегда много говорила по телефону. Перед тем как он зазвонил, она как раз успела спросить…»
Бунин когда-то признавался: «Для меня главное – это найти звук. Как только я его нашел – все остальное дается само собой». Дорис Лессинг тоже нашла нужный ей звук – отщелкивание костяшек на невидимых счетах. Молли более искушенная, Анна более талантливая, но ее бесит, что их объединяет статус свободных женщин, то есть окружающие оценивают их исключительно с точки зрения их отношений с мужчинами. Они и друг с другом разговаривают этим же четким отщелкивающим языком, отчего объем в сравнении с пересказом удваивается, а так называемые речевые характеристики к характерам ничего не прибавляют, ибо полностью отсутствуют. А поскольку и для внешности героинь миссис Лессинг не находит ни единой индивидуальной черточки, приходится все время проверять, где Молли, а где Анна.
Сейчас к ним едет бывший муж Молли Ричард обсуждать их киснущего сына Томми. Теперь Ричард крупный бизнесмен, а Молли и Анна все не выберутся из подросткового левачества. Искушенная (чего никак не видно) Молли подрабатывает в качестве малоуспешной актрисы, а талантливая (чего тоже не видно) Анна живет на доходы с успешной книги, как можно понять, о поднимающейся Африке. Дело происходит в 1957 году, и разоблачение сталинизма служит неутихающей темой отщелкиваний.
Ричард (он тоже состоит исключительно из слов) бросает обвинение бывшей жене: настоящая, мол, причина проблем с Томми – это то, что он полжизни провел в окружении так называемых коммунистов, которые теперь выходят или уже вышли из партии, – чему же теперь должна верить молодежь, которая не хочет поступаться принципами?
Нравы еврокоммунистов, хотя и они подают лишь очень слабые признаки жизни, пожалуй, самое интересное, что есть в эпохальном романе, особенно в его африканском отростке. И впрямь пролетариат – святыня; чернокожие жертвы колониального гнета – тоже святыня; но как быть, когда именно пролетариат является самым ярым сторонником колониального гнета? При этом все, что исходит из Советского Союза, а также из рядов пролетариата, дозволяется только восхвалять, печатать за партийный счет самые бездарные и лживые романы (Англия – тотальное царство тьмы с единственным лучом надежды – компартией), если они написаны рабочими, – Оруэллу не нужно было ездить в Страну Советов, чтобы написать свою знаменитую антиутопию. Как публицистика это было бы вполне интересно, если бы Лессинг с чего-то не вздумалось объявить ее художественной литературой.
Впрочем, у талантливой Анны имеются четыре тетради – черная, красная, желтая и синяя, – где среди сухих дневниковых записей и политических размышлений встречаются наброски вполне приличной прозы, иной раз даже отличной. Эти просветы в настоящую литературу напоминают случайно отъезжающие двери в жизнь из товарного вагона, в котором годами возили цемент. И тамошние серые фигуры, спорящие, стреляющиеся, совокупляющиеся, никак не воспринимаются живыми людьми – интересны лишь их мнения по разным социально-психологическим поводам, насколько могут быть интересными мнения неинтересных людей. Тем более выдаваемые с девятикратной нагрузкой как бы художественной невыносимой скуки.