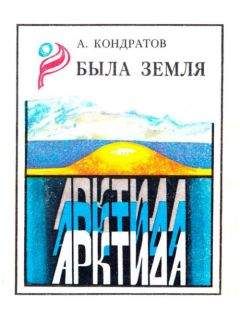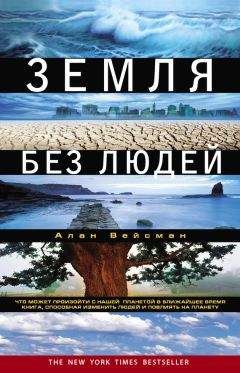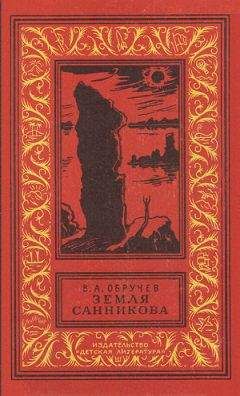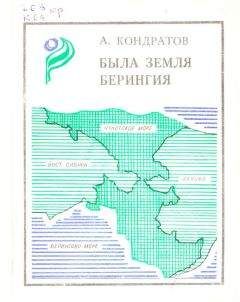Наталия Тяпугина - Поэтика Ф. М. Достоевского: опыт интерпретации
Открепленность Ипполита от Бога, спровоцировала резкую реакцию людей: «…слушатели были в полном негодовании. Все с шумом и досадой вставали из-за стола. Усталость, вино, напряжение усиливали беспорядочность и как бы грязь впечатлений…» (418) И это при том, что «сам по себе этот восемнадцатилетний, истощенный болезнью мальчик казался слаб, как сорванный с дерева дрожащий листик», (418) и должен был внушить, скорее, жалость и сострадание, чем негодование. Дело здесь в том, что речь Ипполита – это еще и вызов, эпатаж. По окончании чтения «самое высокомерное, самое презрительное и обидное отвращение выразилось в его взгляде и улыбке. Он спешил своим вызовом» (417).
Как на вызов люди и ответили – встречным вызовом. Нелюбовь к окружающим бумерангом вернулась к Ипполиту и еще дальше, еще безнадежней отдалила его от той «идеи», воплотить которую на земле он и был призван. Ипполит давно сбился с христианской орбиты: своих несчастных родных он любит мучить; князя за пять месяцев до личного знакомства с ним он уже ненавидит; сама форма его общения с другими людьми неприемлема: он не говорит, а «визжит да пищит».
Между тем христианство полагает все душевные и телесные несовершенства и страдания справедливым следствием нравственного зла. «…Страдания наши не суть внешнего наказания, посланные нам какою-то чужою силою, они созданы нами самими, выработавшими несовершенный тип жизни».[85] Нужно раскаянье, нужен иной – любовный способ общения и прощания с миром. А Ипполит постоянно пребывает в гордыне и беспокойстве. После слов поддержки, произнесенных князем по поводу его «тетрадки», Ипполит вспыхнул: «А вот все-таки умирать, – проговорил он, чуть не прибавив: такому человеку, как я!» (521)
Сообщение о смерти Ипполита в романе при всем его лаконизме включает те же личностные константы, что определяли ход его короткой жизни: «Ипполит скончался в ужасном волнении несколько раньше, чем ожидал, недели две спустя после смерти Настасьи Филипповны» (613). Не удалось «добродетельно» умереть, не смог он выполнить совета князя: «Пройдите мимо нас и простите нам наше счастье!»
Ближе всех к разгадке времени подходят те, кто имеет дар подмечать в жизни, в каждом ее предмете то, что заслуживает любви. Вот почему человечество чтит своих поэтов и художников, способных узреть в текущем мгновении черты вечности, ту божественную красоту, что делает каждый предмет окном, через которое мы можем заглянуть в бесконечность.
Такой светлой личностью и является князь Мышкин. Вот почему он в романе подчас фигурирует в качестве Человека вообще, Человека в его абсолютном воплощении. Помните слова Настасьи Филипповны, обращенные к Мышкину перед ее уходом с Рогожиным: «Прощай, князь, в первый раз человека видела!» Ипполит перед попыткой самоубийства сказал то же самое: «Стойте так, я буду смотреть. Я с Человеком прощусь».
Князь Мышкин не рассчитывает своих часов и дней, щедро делясь с любым человеком временем своей жизни. Кто бы он ни был: жалкий Антип Бурдовский, случайный лакей в доме Епанчиных, страдающий Ипполит, неуправляемый Рогожин или мечущаяся Настасья Филипповна, – Мышкин готов прийти на помощь и просить прощения за самую невольную обиду. Безусловно, князь видит в другой жизни равноценное с собой бытие. В нем нет гордого ощущения самодостаточности. Вот почему его слова и поступки находят отклик в сердцах людей. И если вспомнить реакцию «дачного общества» на исповедь князя, то легко заметить, что она является абсолютно противоположной той, что возникла по прочтении «тетрадки» Ипполитом. Мышкин «видел Аглаю, бледную и странно смотревшую на него, очень странно: в глазах ее совсем не было ненависти, нисколько не было гнева; она смотрела на него испуганным, но таким симпатичным взглядом… Наконец он увидел со странным изумлением, что все уселись и даже смеются… смеялись дружески, весело; многие с ним заговаривали и говорили так ласково, во главе всех Лизавета Прокофьевна: она говорила смеясь и что-то очень, очень доброе. Вдруг он почувствовал, что Иван Федорович дружески треплет его по плечу; Иван Петрович тоже смеялся; но еще лучше, еще привлекательнее и симпатичнее был старичок…» (548) и т. д.
Как «сбывшееся пророчество» воспринял Мышкин реакцию «дачного общества» на свою пылкую речь. Вот почему князь «с наслаждением» вглядывался в лица и говорил взволновано: «Я не благодарю, я только… любуюсь вами, я счастлив, глядя на вас…» (549) Сравните: Ипполит «спешил своим вызовом. Но его слушатели были в полном негодовании… «Какие они все негодяи», – шепчет он князю в исступлении…» И т. д.
Только сам человек несет ответственность за каждый прожитый миг своей жизни. И отпечатается он или нет в судьбах встретившихся ему людей – зависит только от него.
Проблема финала
Финал «Идиота» – явление уникальное даже для художественной системы Достоевского, в которой концовка всегда несет особую смысловую нагрузку. Известно, что писатель мог одним последним штрихом заставить читателя передумать весь роман заново («Преступление и наказание»), расставить важнейшие смысловые акценты, уточняющие авторскую позицию («Подросток»), наконец, именно на самых последних страницах до конца объяснить и героев, и суть происшедших событий («Бесы»).
Но даже в системе подобного сюжетостроения «Идиот» стоит особняком по особой значимости финала. По словам самого Достоевского, «сцена такой силы не повторялась в мировой литературе».[86] Писатель подчеркивал: «Наконец, и (главное) для меня в том, что эта 4-я часть и окончание ее – самое главное в моем романе, то есть для развязки романа почти и писался и задуман был весь роман»(VI, 634). (Выделено нами – Н.Т.)
Стефан Цвейг говорил о способности Достоевского шаманить, колдовать, ворожить и путать словом, чтобы одним резким финальным рывком осветить все произведение яркой смысловой вспышкой. И это, безусловно, так. Финал «Идиота» потрясает, сколько его ни перечитывай. Он оставляет впечатление острое, мучительное… и таинственное. Разум сопротивляется трактовкам, в которых событийная сторона равна смысловой: «Гибель героини, взаимное сострадание двух соперников, двух названых братьев, над трупом любимой женщины, возвещающее им обоим безнадежный исход на каторгу или в сумасшедший дом».[87] Ведь если следовать этой – внешней логике событий, тогда значит, что писался роман для того, чтобы вызвать у читателей ужас перед жизнью, ощущение безнадежности от уязвимости идеалов. Зачем добро, любовь и жертва князя, если завершается все смертью, накрытым американской клеенкой трупом, по бокам которого по-прежнему дикий и опасный Рогожин и прекраснодушный князь, перешагнувший границы разума?
Совершенно очевидно, что автор преследовал какие-то иные цели, а трактовки, подобные этой, обессмысливают роман, который, конечно же, не ставил целью поселить в душах читателей уныние и скепсис. Мы подходили к финальной сцене и со стороны Рогожина (глава «Восстановить и воскресить человека!»), и с позиции Настасьи Филипповны (глава «Красота как воплощенная идея»), однако исчерпанности не почувствовали. Наоборот. Жуткий символизм и какой-то запредельный реализм финала побуждают все к новым и новым поискам, которые, как нам кажется, надо вести с двух сторон: во-первых, это должен быть анализ мировоззрения Достоевского, его философии жизни и смерти. А во-вторых, необходим тщательный анализ самой финальной сцены. При этом к выяснению смысла написанного, присоединяются вопросы о том, как это было сделано писателем? Почему объявленное чуть ли не с первых страниц романа убийство так потрясает? И чем дольше размышляешь над смыслом финала, тем больше убеждаешься в том, что тайна финала – это тайна всего романа. Понять развязку – значит понять важнейшую авторскую думу о жизни, смерти и человеке. Их развивал перед нами писатель на протяжении всего романа, но только в финале они приобрели характер такого мощного духовного сплава, который не только по-новому осветил все предыдущее повествование, но и придал реалистической манере Достоевского черты почти магического письма.
Мы уже говорили о том, что Достоевского глубоко беспокоила новейшая тенденция – как быстро при абсолютном равнодушии общества распространяется неверие в душу, в ее бессмертие. Писателя тревожил этот насмешливый, модный нигилизм, проникающий во все поры общества и разрушающий его. Для него очевидно: нельзя человеку жить на правах животных, чтобы только есть, пить и размножаться. Только самые неразвитые люди озабочены этим. И даже если таковых большинство, это отнюдь не свидетельствует о их правоте, потому что не они, а «высшие типы царят на земле», именно они несут в жизнь «высшее слово и высшую мысль»– то слово и ту мысль, без которых не может жить человечество. Носителей этой высшей истины при жизни, как правило, не понимают и не ценят, более того, их гонят, над ними смеются. «Но мысль, но произнесенное ими слово не умирают и никогда не исчезают бесследно, никогда не могут исчезнуть, лишь бы только раз были произнесены, – и это даже поразительно в человечестве» (XXIV, 47). Со временем становится очевидным, что «торжествуют не миллионы людей и не материальные силы, по-видимому столь страшные и незыблемые, не деньги, не меч, не могущество, а незаметная вначале мысль, и часто какого-нибудь, по-видимому, ничтожнейшего из людей» (XXIV, 47).