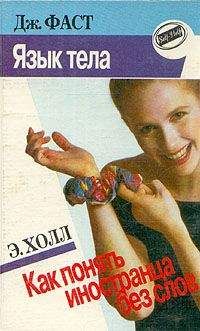Юрий Откупщиков - Фестский диск: Проблемы дешифровки
Сопоставление знаков ФД с лувийскими иероглифическими знаками также занимает видное место в методике В. Георгиева. Однако при внимательном сопоставлении тех и других знаков можно убедиться в том, что перед нами — две совершенно различные системы письменности. Уже более 70 лет тому назад известный специалист по истории эгейской и малоазийской письменности И. Сундвал, сам никогда не пытавшийся дать ту или иную «дешифровку» ФД, писал, что его знаки не имеют никаких близких соответствий в хетто-лувийских системах письма.[30] Несколько изолированных примеров с весьма отдаленным, по большей части, сходством между знаками ФД и знаками линейного письма А и Б также не дают оснований для выводов о фонетическом содержании знаков ФД. Тем более недопустимо произвольное обращение то к одной, то к другой системе письма — в зависимости от того значения, которое хочет приписать тому или иному знаку автор дешифровки. Так, например, знак 12 ФД действительно имеет сходные параллели и в линейном письме Б, и в иероглифическом лувийском: . В линейном письме Б соответствующий знак читается qe, но это значение, видимо, не устраивало В. Георгиева. Аналогичный знак в иероглифическом лувийском означает ‘хлеб’. Поэтому В. Георгиев отказывается от традиционной интерпретации знака ФД как знака ‘щит’ и толкует его как ‘хлеб’[31] (недавно эту идею В. Георгиева повторил Н. Н. Казанский[32]). После этого — на основании хет. mukani ‘ein Gebäck’ — автор дешифровки получает нужное ему фонетическое значение: mu, хотя реальное чтение этого знака в лувийском будет turpi‑ или arsa‑.
Знак 36 ФД имеет сходство со знаком 144 иероглифического лувийского, где он имеет значение wi (ср. лув. wiana ‘вино’). Здесь перед нами очень редкий случай, когда внешнее сходство знаков, по-видимому, действительно сочетается с акрофоническим происхождением лувийского знака. Это было бы самой надежной идентификацией (если исходить из предположения о лувийском происхождении ФД), ибо здесь автор опирался бы на сходство с лувийским иероглифическим знаком, содержание которого этимологически совпадает с начальным слогом лувийского же слова wiana (на знаке, видимо, изображена виноградная лоза). Но, вопреки всему этому, В. Георгиев придает знаку ФД значение tu (хет. tuwers(a) — ‘виноград’). Знаки 31 и 32 ФД изображают летящую и сидящую птицу. Эти знаки В. Георгиев наделяет фонетическими значениями hu и za, исходя из хеттских слов со значением ‘птица’. Единственный аргумент, который может привести автор в пользу идентификаций 31 = hu и 32 = za, а не наоборот, заключается в том, что тогда «получаются» лувийские слова. Между тем, в иероглифическом лувийском также есть знак с изображением птицы, но он имеет фонетическое значение i, которое, видимо, не давало лувийских «чтений», а поэтому было отброшено. Таким образом, мы видим, что методический принцип, заключающийся в сопоставлении знаков ФД со сходными знаками других видов письменности, не выдерживает критики в той его форме, в какой им пользуется в своих работах В. Георгиев.
Частотность употребления знаков как один из методических принципов определения их фонетического содержания, к сожалению, только декларируется в работах В. Георгиева о ФД. Сам по себе этот методический прием не нов.[33] Особенно охотно исследователи ФД сопоставляли частотность употребления его знаков в разных позициях с частотностью знаков линейного письма А и Б. Но эти подсчеты при идентификации знаков могут оказаться продуктивными лишь в том случае, если сопоставляемые тексты написаны на одном и том же языке или же на близкородственных языках.
Выводы В. Георгиева о фонетическом содержании знаков ФД, если бы эти выводы были верными, должны были бы найти свое подтверждение при сравнении их частотности с частотностью знаков иероглифического лувийского. Однако автор дешифровки даже не пытается проанализировать в этом плане результаты своей работы. Возьмем несколько примеров, свидетельствующих о том, что идентификации и чтения В. Георгиева резко противоречат реально засвидетельствованной частотности употребления соответствующих фонетических знаков в текстах иероглифического лувийского. Так, по В. Георгиеву, самый частотный знак ФД — №2 (= wa, 19 случаев) — встречается только в конце слова и имеет всего один вариант. В иероглифическом лувийском, по П. Мериджи, имеется 6 знаков для обозначения wa, причем очень часто этот слог встречается в начале слова. В словаре П. Мериджи примерно 5% слов, т. е. в среднем каждое двадцатое слово, начинается на wa‑.[34] В тексте ФД, согласно В. Георгиеву, нет ни одного такого слова. Странное расхождение, если ФД написан по-лувийски…
Немногим уступает слогу wa по частотности слог ri, два варианта которого, по В. Георгиеву, встречаются в тексте ФД 16 раз. Частотность слога ri в иероглифическом лувийском, по-существу, равна нулю. Здесь мы также сталкиваемся с резким расхождением в частотности употребления знаков в настоящем лувийском и в гипотетическом «лувийском» тексте ФД. Слог mi засвидетельствован у В. Георгиева всего один раз (и то под вопросом), а в иероглифическом лувийском этот слог встречается очень часто. Ни разу в «лувийском» тексте ФД, согласно дешифровке В. Георгиева, не встретился, например знак ku, частотность которого в иероглифическом лувийском столь высока, что ноль случаев из 242 в тексте ФД представляется вариантом совершенно невероятным.
Итак, ни акрофонический принцип, ни сопоставления формы знаков с иероглифическим лувийским и с линейным письмом А и Б, ни частотность употребления отдельных знаков не могут служить основой для выводов В. Георгиева. Остается один — последний — принцип установления фонетического содержания знаков ФД: «возможность прочтения лувийского слова». Ход идентификации знаков у В. Георгиева отчетливо показывает, что именно этот последний принцип был основным, а подчас и единственным при определении фонетического содержания знаков ФД. Ключевой в работах В. Георгиева является идентификация знака 12. Этот знак сходен со знаком линейного письма Б, имеющим значение qu. Ссылаясь на одну из своих прежних работ, в которой аналогичный знак линейного письма А был идентифицирован как mu, В. Георгиев и знак 12 ФД читает как mu. Таким образом, в основе идентификации этого знака лежит предполагаемое значение знака из другой недешифрованной письменности, а твердо установленное значение такого же знака в дешифрованном линейном письме Б отбрасывается.
Поскольку в конце слова на ФД часто встречается сочетание знаков 12 и 2, а в лувийском есть много личных имен на ‑muwa, знаку 2 В. Георгиев придает значение wa. Итак, знак 2 идентифицируется лишь на том основании, что в результате получаются «чтения» конечной части лувийских личных имен. После этого берутся лувийские имена на ‑muwa и слова ФД, оканчивающиеся знаками 12—2 (= mu-wa). Знакам, стоящим перед ‑muwa, придаются значения, при которых соответствующие слова читаются как лувийские личные имена. Естественно, что, придав знакам ФД эти значения, автор в дальнейшем находит в соответствующих местах текста как раз эти имена. При наличии большого количества лувийских имен на ‑muwa можно среди них подобрать такие и так, чтобы начальные знаки этих имен давали какой-то смысл и в других сочетаниях, тем более, что и в этих других словах фонетическое содержание знакам ФД придавалось таким образом, чтобы «получались лувийские слова».
Следовательно, дешифровка В. Георгиева базируется на произвольных чтениях текстов, причем автор заранее ориентировался на прочтение знаков ФД так, чтобы в результате получались лувийские слова. Автор дешифровки прочел в тексте ФД то, что он хотел в нем прочесть. И нет никаких объективных критериев, опираясь на которые, другой исследователь мог бы прочесть этот текст так же, как В. Георгиев. Всё это дает полное основание считать дешифровку В. Георгиева неудачной, даже если условно признать его исходный тезис о лувийской принадлежности языка ФД и принять три основных методических принципа, которыми он пользовался в своей работе (частотность, сопоставление с другими системами письма, акрофонический принцип). Что касается последнего принципа («чтобы получались лувийские слова»), то он ставит перед исследователем задачу с заранее данным ответом, и решение этой задачи начинает граничить с тем, что в научном просторечии называется «подгонкой».
В книге А. А. Молчанова, как и у В. Георгиева, также принимается гипотеза о хетто-лувийском субстрате, но в компилятивной форме, предложенной Л. А. Гиндиным, который пытался увязать между собой гипотезу Л. Пальмера — А. Хойбека о догреческом хетто-лувийском субстрате с гипотезой В. Георгиева об индоевропейском субстрате и с гипотезой П. Кречмера — А. Мейе о неиндоевропейском средиземноморском субстрате на юге Балканского полуострова и на островах Эгеиды. Несколько видоизменяя схему Л. А. Гиндина, А. А. Молчанов полагает, что вначале (без указания времени) на юге Балкан и на Крите господствовал неиндовропейский минойский (у Л. А. Гиндина — эгейский) язык. Затем (опять без даты) на него наслаивается индоевропейский пеласгский. Следующий слой (также без даты) — анатолийский. И наконец на рубеже III—II тысячелетия приходят греки. Вместе с тем автор утверждает, что до середины II тысячелетия «минойский язык, безусловно, господствовал» на Крите.[35] Я не буду здесь останавливаться на многочисленных противоречиях схемы Л. А. Гиндина — А. А. Молчанова, ибо это уведет нас далеко в сторону.