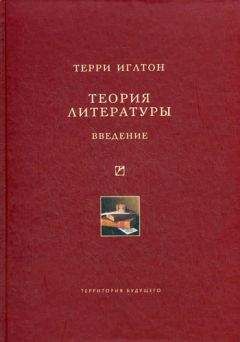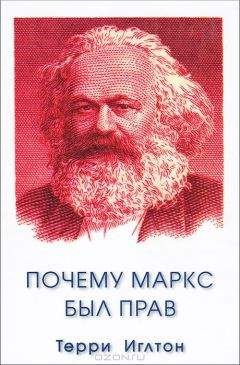Евгений Клюев - Теория литературы абсурда
Более того: всё, что не есть собственно код, принято в настоящее время (и принято, мягко говоря, не сегодня) квалифицировать как фикцию. И, насколько бы неожиданно для советской, а особенно позднесоветской науки это ни звучало, к разряду фикций безоговорочно относят не только «верность идеалам» и «жизненную правдивость», но и, например, фигуру самого автора и даже (святая святых!) – фигуру читателя.
Заметим, кстати, что одна из статей того же Барта так и называется – «Смерть автора». Кроме прочего, в статье этой отмечено, что современная лингвистическая, скажем, наука отчетливо продемонстрировала:
«…высказывание как таковое – пустой процесс и превосходно совершается само собой, так что нет нужды наполнять его личностным содержанием говорящих. С точки зрения лингвистики, автор есть всего лишь тот, кто пишет, так же как «я» всего лишь тот, кто говорит «я»: язык знает субъекта, но не личность, и этого субъекта, определяемого внутри речевого акта и ничего не содержащего вне его, хватает, чтобы «вместить» в себя весь язык, чтобы исчерпать все его возможности».[3]
Между прочим, не менее естественно было бы, видимо, назвать эту статью и «Смерть читателя», оправдав такое название ссылкой на ту же лингвистику: ведь, если язык знает субъект, но не личность, можно ли утверждать, что он, с другой стороны, знает что-нибудь, кроме объекта? А в этом случае языку совершенно неизвестно то, что мы называем «личностными параметрами читательской аудитории». Да и интересуют ли эти личностные параметры читательской аудитории хоть одного настоящего писателя настолько, чтобы, например, в жертву им принести Текст?
Сама собою напрашивается здесь мысль о том, что, стало быть, рискованны и те направления литературоведческой науки, которые исходят из необходимости для пишущего «соблюдать интересы читателя». И, если Подлинный Текст «падает с неба», то и понят он может быть только и исключительно «на небе».
Однако если нет ни автора, ни читателя, каким же образом вообще может происходить художественная коммуникация, или, точнее, коммуникация посредством художественного слова? И годится ли для ее иллюстрирования общеизвестная модель коммуникативного акта, согласно которой адресант вступает в контакт с адресатом по поводу определенного референта и при использовании кода? Со всей очевидностью здесь можно настаивать только на одном: эта хорошая сама по себе модель дает в нашем случае такой перекос в направлении кода, что практически утрачивает какой бы то ни было смысл. И единственное, что остается в нашем распоряжении, есть код во всей его неприкрытости.
Осознание этой истины обеспечивает исследователю чистоту методологической установки. Как бы, стало быть, ни называть научную школу, изучающую литературно-художественный текст вне учета «отягчающих его обстоятельств» – формализмом, структурализмом или любым другим «измом», – чистота методологической установки, пропагандируемая этой школой, вне всякого сомнения, заслуживает уважения.
Итак, «отягчающие обстоятельства»…
Самым, пожалуй, могучим из них до сегодняшнего дня в теории литературы «советского производства» было (и, увы, остается) то, благодаря которому удалось сформулировать одно из эстетически наиболее бедных суждений, а именно: литература – учебник жизни.
В основе этого утверждения лежит представление о том, что референтной областью литературы – подобно тому, как это бывает в науке и публицистике, – является «объективная действительность», или, если угодно, «жизнь во всем ее многообразии». Представления этого не удалось окончательно поколебать даже ведущим мастерам художественного слова нашего столетия, неоднократно признававшимся, что они знать ничего не знают об объективной действительности и не испытывают никакой потребности что-нибудь о ней узнать. Многочисленные забавные подробности, иллюстрирующие это положение, можно представить, пожалуй, не всем еще известной историей из творческой биографии Анны Ахматовой, автора, в частности, знаменитых строк из 20-х годов:
«Я на солнечном восходе
Про любовь пою.
Во саду ли в огороде
Лебеду полю…»
Приехав во время войны к подруге, на юг, и вызвавшись помочь ей с прополкой, Ахматова простодушно попросила показать ей, как выглядит лебеда – до этого, оказывается, не известная поэту на вид!
Правда, многие крупные художники время от времени и по разным причинам считали все-таки своим долгом делать заявления о том, что их искусство служит (или, по крайней мере, «призвано служить») нравственному совершенствованию человечества и т. п., что они стремятся отражать жизнь-как-она-есть и проч. Может быть, соответствующие «эффекты» и действительно наблюдались и имели место, однако основным «продуктом» литературно-художественного творчества всякий раз оказывался тем не менее Текст. Текст, если и соотносимый с набором каких-либо реальных референтов, то весьма и весьма причудливо, во всяком случае – не непосредственно.
В одной из наших более ранних работ[4] нам уже приходилось высказываться о том, до какой степени по-разному может быть вообще представлен референт в тексте. В работе этой, например, в поле зрения оказались и такие явления, которые были обозначены в качестве безреферентных (1) и референцированных (2) – в отличие от референтных.
«Безреферентное высказывание, – говорится там, – является результатом нарушения связи по линии «слово – действительность». Элементы высказывания в данном случае никак не соотнесены с предметами реального мира… Референцированное высказывание является результатом частичного нарушения связи «слово-действительность». Элементы высказывания лишь предполагают наличие референта, ориентируя адресата либо на группу возможных референтов, либо на абстрактный референт…»
Такого рода высказывания (безреферентные и референцированные) квалифицированы нами в качестве высказываний, порождающих ситуации, условно названные нами «неречевыми». Неречевые ситуации суть те, которые предполагают лишь презентацию языка как демонстрацию его возможностей, но не предполагают, фактически, употребления языка (то есть – приспособления его к условиям взаимодействия). В цитированной работе утверждается, кроме того, что неречевые ситуации не представляют собой, так сказать, полноценного функционирования языка.
Из рассуждений этих следует настораживающий, на первый взгляд, вывод о том, что художественная литература в свете данных идей как раз и представляет собой совокупность безреферентных и референцированных высказываний, а потому, стало быть, парадоксальным образом оказывается неполноценной с точки зрения функционирования языка. А отсюда очень недалеко уже до утверждения, в соответствии с которым художественная литература есть некоторая аномалия – и прежде всего коммуникативная аномалия!
Эмоции, возникающие по поводу такого определения, зависят от того, вкладывать ли в понятие аномалии негативный смысл. Скорее всего, делать это отнюдь не обязательно. Вспомним хрестоматийное пушкинское «без грамматической ошибки…» или не менее хрестоматийное хемингуэевское: стиль есть индивидуальное косноязычие автора (кстати, здесь перед нами одно из самых замечательных определений, когда-либо в истории человечества дававшихся стилю). Не говоря уже, например, о том, что в классической риторике тропы рассматривались как «акирологические» (греч. «неправильные»!) формы выражения, и о том, что современная риторика прочно взяла на вооружение определение фигур и тропов как «отклонений»!.. В полном согласии с ними многие представители теории литературы сегодня утверждают, что пользоваться языком изящной словесности в повседневности коммуникативно несостоятельно
(ср. мандельштамовское:
«Я хотел бы ни о чем
Еще раз поговорить»)
и что выбирать в качестве «объектов подражания» модели поведения любимых литературных героев социально разрушительно (ср. «онегинскую модель»: убить единственного друга на дуэли).
Не предполагают ли только что приведенные сведения возможности несколько кощунственного взгляда на Изящную Словесность?
Кощунственность – категория, трактуемая всеми как только и исключительно отрицательная – содержит в себе (подобно всякому еретизму) известную долю творческой энергии. Следуя потокам этой энергии, действительно легко предположить, что существуют, так сказать, нормальные носители языка – «мы с вами», – использующие язык в качестве средства коммуникации, и ненормальные носители языка – «поэты и писатели», – приносящие коммуникативные цели в жертву «демонстративным».