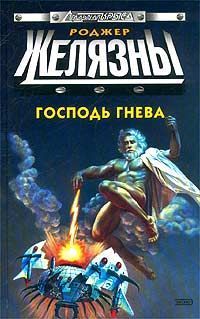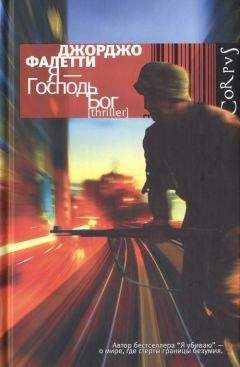Роман Красильников - Танатологические мотивы в художественной литературе. Введение в литературоведческую танатологию.
Г.-Г. Гадамер предлагает некоторые приемы ограничения относительности исследовательской гипотезы. Прежде всего, он предлагал уделять особое внимание «предрассудкам» эпохи, т. е. тем ментальным установкам, которые предопределяют взгляд автора на мир [Гадамер 1988: 329]. Другими словами, толкование текста должно быть историчным.
На герменевтическую традицию опираются многие другие литературоведческие подходы: биографический, сравнительно-исторический, культурно-исторический, психологический, социологический и пр. В том или ином виде их также интересует соотношение между означающим и означаемым, между языковым материалом и референциональной сферой, сигнификативной или денотативной.
В лингвистической семантике существует ряд понятий, которые на разном уровне описывают содержание высказывания (в нашем случае текста, сегмента текста). Для многих ученых актуально разграничение значения и смысла: значение – языковая единица семантики, совокупность всех характеристик объекта, данная в словаре, некий инвариант; смысл – речевая единица семантики, значение, данное в индивидуальном восприятии человека (писателя), конкретная реализация инварианта [см. об этом Алефиренко 2005: 69; Тюпа 2006: 24]. С этой точки зрения, в литературном произведении мы имеем дело лишь со смыслами, реализующими значения в определенном контексте. Если говорить непосредственно о нашем объекте исследования, то значение смерти зафиксировано в словарях (в другом, не лингвистическом виде – и в энциклопедиях), а смысл смерти – в индивидуально-авторских художественных системах как масштабных высказываниях, хотя разделить эти явления полностью не представляется возможным.
В то же время основным термином, применяемым для изучения семантики, является понятие концепта (см. 1.3). В лингвистике под концептом понимается «мысленный субстрат значения, на котором лингвокреативное мышление наращивает различные смыслы оценочного, эмотивного и экспрессивно-образного характера» [Алефиренко 2005: 63]. Таким образом, ядром концепта является языковое значение, которое осложнено смыслами индивидуально-психологического и коллективно-ментального (исторического, этнического, социального) происхождения.
Концептологический анализ предполагает выявление компонентов значения (поэтому его еще называют компонентным) – сем, «минимальных выделяемых смысловых элементов содержательной структуры слова» [Там же: 198]. Отличие сем друг от друга обусловлено их выраженностью через различные лексемы, конкретным контекстом функционирования знака, его месторасположением на оси высказывания. Частотность употребления тех или иных компонентов значения, релевантность одних и второстепенность других, синонимичность или антонимичность их друг другу – все это формирует определенные отношения между семами и приводит к структурированию концепта.
Следовательно, содержание языковых единиц имеет внутреннюю структуру. То же самое можно сказать и о мотиве, который, напомним, считается семантико-структурным элементом. Ядро этой структуры выделяется при формулировке мотива как инварианта (функции, мотифемы). К примеру, словосочетание «мотив смерти» не отражает все многообразие выразительных средств, способных описать изучаемый компонент текста. Здесь схватывается суть, средоточие, «обобщенное значение» мотива как вариации (алломотива), реализуемой в конкретном литературном произведении. И. Силантьев отмечает семантический характер инварианта, рассуждая о функциях В. Проппа: «Прибегая к семиологической терминологии, можно заключить, что функция – это генеральная сема или совокупность генеральных сем, занимающих центральное и инвариантное положение в структуре вариативного значения мотива» [Силантьев 2004: 27].
Поэтому проблема конструирования (реконструкции) мотива вообще в первую очередь семантическая. Словосочетание «мотив смерти» указывает на архисему (генеральную сему) танатологического элемента и означает прекращение жизни человека (персонажа). Зачастую эта формулировка охватывает все типы смерти: «естественную», случайную, убийство, самоубийство, танатологическую рефлексию, умирание, посмертное существование, хотя они могут становиться и самостоятельными семантическими инвариантами (мотив самоубийства, мотив убийства). Нельзя также не заметить, что при определении архисемы речь идет в первую очередь о предикатах. Далее в дело вступают дифференциальные семы, которые конкретизируют танатологическую ситуацию, характеризуя актантов и сирконстанты (субъекта, объекта, причину, орудие, пространство, время и пр.), отражают конкретную вариативность мотива смерти: Позднышев убивает свою жену из ревности, Иван Ильич умирает от неизвестной болезни, Козельцев погибает во время осады Севастополя, Поликей заканчивает жизнь самоубийством из-за потерянных денег и т. д.
Как известно, кроме денотативного значения, связывающего знак (символ) с определенным объектом из окружающего мира, существуют и коннотативные семы (см. [Эко 2004: 61, 69]), отражающие ассоциации носителя или производителя семиотического элемента, связанные с употреблением знака. Простейшие ассоциации носят эмоционально-экспрессивный характер, тогда к основному значению добавляются так называемые эмоционально-экспрессивные семы, выражаемые напрямую, через языковые формы или через общий настрой эпизода (модус художественности, пафос). Могут быть и более сложные коннотации, связывающие семиотические элементы с ментальными представлениями эпохи, социального слоя, философскими идеями писателя, интертекстуальными реминисценциями, требованиями жанра или стиля и т. и. Здесь мы переходим уже в область прагматики, изучающей отношение к знаку его носителей, производителей и реципиентов (автора, нарратора, читателя).
Трудно представить себе танатологические знаки (мотивы), лишенные коннотативных сем. Скорбь, печаль, страх, радость за победившего героя, убившего «справедливо» и избежавшего гибели, злорадство по поводу «справедливо» погибшего злодея, катарсическая слезная реакция – все это, как правило, сопровождает рецепцию танатологического дискурса, свидетельствуя о наличии в нем эмоционально-экспрессивных компонентов. Ничто так не привлекает внимание реципиента, как разговор или словесное рисование на табуированную тему: этот факт отмечают многие исследователи массовой культуры, активно эксплуатирующей образы смерти (см., например, [Кара-Мурза 2000: 272–273]). Любая танатологическая концепция имеет коннотативную связь с мировоззренческими системами, распространяющимися за границы литературы (религиозными, философскими, эстетическими и пр.), где зачастую феномен смерти ассоциируется со злом и наказанием за грехи.
Если же принять во внимание проблему недоступности смерти для познания человека, то значение танатологических мотивов явно теряет свою связь с денотатом и располагается в области одних лишь коннотаций. Это значит, что танатологическое повествование может касаться умирания или танатологической рефлексии, но сам факт смерти и посмертного состояния человека оказываются всегда сферой переносных значений, домыслов и гипотез.
Эта проблема становится не такой страшной, если учесть отношение к денотативному значению в семиотике вообще. Мы уже отмечали редуцированность денотата (референта) в концепции Ф. де Соссюра (см. 1.3). У. Эко так комментирует данный вопрос: «Наличие или отсутствие референта, а также его реальность или нереальность несущественны для изучения символа, которым пользуется то или иное общество, включая его в те или иные системы отношений. Семиологию не заботит, существуют ли на самом деле единороги или нет, этим вопросом занимаются зоология и история культуры, изучающая роль фантастических представлений, свойственных определенному обществу в определенное время, зато ей важно понять, как в том или ином контексте ряд звуков, составляющих слово “единорог”, включаясь в систему лингвистических конвенций, обретает свойственное ему значение и какие образы рождает это слово в уме адресата сообщения, человека определенных культурных навыков, сложившихся в определенное время» [Эко 2004: 64].
Значит, коннотативные компоненты в семантике танатологических знаков оказываются важнее первичной архисемы, которую можно отводить на второй план, лишь подразумевать и ставить на ее место новые генеральные семы метафорического характера.
Тот факт, что содержание танатологических элементов, тем более с концептологической точки зрения, оказывается конгломератом различных сем индивидуально-психологического и коллективно-ментального происхождения, с одной стороны, осложняет исследование, заставляя обращаться к дополнительным источникам (документам эпохи, произведениям современников, биографическим данным), а с другой – упрощает его, позволяя использовать данные смежных гуманитарных дисциплин, весь корпус накопленного танатологического знания.