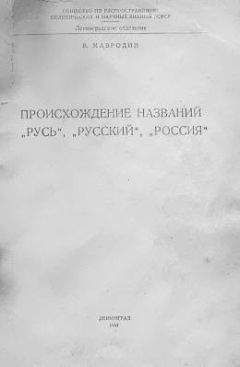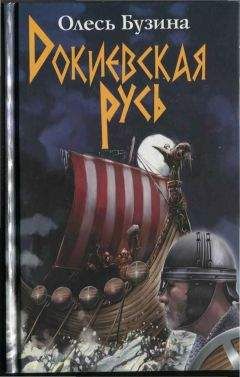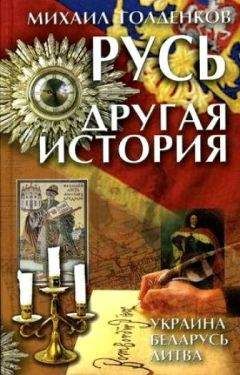Самарий Великовский - В скрещенье лучей. Очерки французской поэзии XIX–XX веков
Именно этот – отнюдь не переносный, а назидательно-прикладной – смысл заключен в прославленном лотреамоновском изречении, которому было суждено не раз быть подхваченным в XX в.: «Поэзия должна иметь своей целью истину, применимую в жизни», – истину полезную. Но, коль скоро в самом «Предисловии к будущей книге» эта «полезная истина» подразумевает отрешенность от трагических превратностей и неурядиц текущей вокруг действительной жизни, которые как раз и были вскрыты стараниями тех, кто свален раскаявшимся теперь певцом Мальдорора в братскую могилу зловредных «отравителей душ», – в таком случае ему ничего не остается, как довольствоваться всего-навсего истинами прописными. И с бестрепетной последователь ностью, наступая на горло собственному смятению, заявить, что самый заурядный «школьный учитель умнее Бальзака и Дюма», а «подлинные шедевры французского языка – это речи при вручении ученикам наград за прилежание и успехи». Дюкасс не смущаясь изрекает заповеди юродствующего смиренномудрия так же истово, как Лотреамон упражнялся в кощунственных анафемах. Только без видимых колебаний в теперешней своей духовно худосочной правоте, хотя прежняя надсадность и какая-то узколобая оголтелость ее возглашения дают повод думать, что мучительная умственная распутица и здесь далеко не преодолена.
Бесполезно, да и не слишком, пожалуй, заманчиво гадать, как выглядела бы, доведись Дюкассу прожить доль ше, изготовленная в осуществление таких установок – и в противовес кромешному светопреставлению «Песен Мальдорора» – добропорядочно-рассудительная лепота, от дающая то ли папертью, то ли школой, а то и казармой. За то нетрудно предположить почти наверняка, что самому Лотреамону вряд ли удалось бы опознать в ней вожделенное откровение духовно независимой, самобытной личности: ведь, отряхнув прах разменного «сатанинства», он попадал в не менее цепкую ловушку затверженной стертой благонамеренности. Из тупика черного – в тупик розовый. Ранняя смерть избавила его от весьма тяжкой возможности самому в этом убедиться по ходу работы над задуманной второй книгой.
И все же, как бы настораживающе ни обозначились в «Предисловии» к ней опасности сползания «чистой добро ты» к духовно скудной и вдобавок приказной благостности, исторически существо дела одним этим не исчерпывается. Как засвидетельствовали выбором своих предпочтений многие поэты Франции уже в XX веке, возвещенная Лотреамоном-Дюкассом смена вех – один из тех весьма нередких случаев, когда очевидная тупиковость намеченного в запальчивой спешке решения не перечеркивает, а скорее подчеркивает прозорливую плодотворность самой постановки задачи. И особенно тут, в лирике, которая ведь по природе своей гораздо благоговейнее, «гимничнее», чем романное повествование или театральное действо, гораздо охотнее припадает к прозрачно-светлым источникам, как раз не слишком притягательным, пресноватым на вкус ее соседей.
Недаром два-три года спустя после Лотреамона его почти сверстник Артюр Рембо, не менее отчаянный испытатель последних, предельных, чреватых надломом возможностей бунтующего духа и слова, на исходе своего собственного странствия сквозь ад головокружительного мятежа, тоже возжаждал «песни небес» во славу «небывалой мудрости и небывалого труда». Песни тоже жизнестроительской: «Я спустился на землю, снедаемый жаждой искать здесь свой долг – и заключить в объятия шершавую действительность! Пахарь!.. И это только кануны. Вберем в себя прилив настоящего мужества и настоящей нежности. И на заре, вооружившись пылким терпением, мы вступим в лучезарные грады».
Выстраданный Рембо и Лотреамоном и широко обнародованный лишь после их смерти завет о выработке утверждающе-действенного воззрения на жизнь позже, во Франции XX века, отнюдь не будет забыт. Поздний Элюар озаглавит свой манифест работы лирика – «строителя света» лотреамоновским постулатом об «истине, применимой в жизни». И противопоставит его, кстати, всепоглощающей зачарованности дурной жизненной изнанкой, «черному юмору» тех своих бывших спутников-сюрреалистов, чья родословная парадоксально восходит тоже к Лотреамону – Лотреамону «Песен Мальдорора».
Философия приема
Трудно отыскать в тысячелетней без малого истории стихотворчества Франции другую столь же крутую пере стройку его лада и облика, нежели та, что протекала на рубеже XIX–XX вв. Подобно тому как французская живопись после Сезанна или музыка с Дебюсси и Равеля, как – еще разительнее – науки о природе с их лавиной открытий и изобретений, эта старейшая на Западе культура поэтического слова испытала тогда мощный обновленческий толчок.
Между тем имена ее преобразователей – Малларме, Рембо, Аполлинера, как и продолживших их дело Реверди, Элюара, Сен-Жон Перса, – в наших не утихающих вот уже не один десяток лет обсуждениях ценностей и путей, так сказать, неклассической литературной классики XX столетия упоминаются куда реже, чем имена прозаиков – Пруста, Джойса, Кафки, Фолкнера… Причину указать несложно. И она вовсе не в размерах дарований, величине вклада в сло весность – тут Рембо или Аполлинер сравнение с Прустом в общем-то выдерживают. Дело, скорее, в меньшей исследо вательской освоенности. Недавней острой нехватки в добротных сведениях уже вроде бы нет, однако запас аналитически наработанного пока что скромен. И это тем досаднее, что как раз в лирике строй самого письма особенно явствен, выпукло кристаллизует свое духовное наполнение, а стало быть, делает ее незаменимым источником при уточнениях смысла того перевода с канонических рельсов на неканонические, который так или иначе – хотя бы как упорное непризнание всего порожденного тогдашними переменами – ощутимо сказы вается в любой из отраслей культуротворчества по сей день.
Прием как смысл
Сдвиги в языке французской поэзии на пороге XX в. поистине наглядны. Они обнаруживают себя уже тем, среди прочего, что былая просодия, основанная на повторяющемся размере, упорядоченной строфике, непременной рифме, мало-помалу становится частным случаем стихосложения. Отныне регулярный стих – один из многих возможных и выбирается или не выбирается в зависимости от намерений, вкуса, задач. И следовательно, будучи предпочтен, получает дополнительную значимость орудия именно – и ради каких-то целей – предпочтенного, отнюдь не единственно допустимого. Рядом и наравне с ним в обиходе теперь стих «освобожденный» (от некоторых соблюдавшихся прежде правил) или вовсе свободный; стих белый, нерифмованный; версет (слегка и воль но ритмизированный библейский абзац); стихотворение в прозе – и разного рода сочетания этих видов письма.
При всех разумных оговорках относительно сугубо эвристического, а не впрямую предметного смысла сопоставлений между лирикой и достаточно далекими от нее точными науками, можно, тем не менее, в порядке предварительной гипотезы, вспомнить об участи Евклидовой геометрии после открытий Лобачевского, да и других разделов классического естествознания в XX в. Тех, что включались тогда же в резко расширенное пространство механики, физики или математики на правах частичного их слагаемого – законов и приемов исследования, по-прежнему применимых к известному кругу явлений, однако утративших свою исключительную правомочность.
Стиховой инструментарий с той же стремительностью обогащается не столько за счет доводки-усовершенствования своего классического арсенала, – вполне сохраняющего, впрочем, рабочую надежность в подобающих случаях, – сколько потому, что во Франции крепко усваивают и все охотнее берут на вооружение урок, вытекавший из стихотворений в прозе Бодлера «Парижская хандра»: поэзия – это не всегда и не обязательно стихи, тем паче стихи привычного толка.
Очевидные даже графически изменения слишком серьезны, чтобы не свидетельствовать о брожении глубинном, идущем где-то в толщах самосознания лириков. Ведь если вдуматься: прежде незыблемая установка на соответствие высказывания высказываемому в рамках векового версификационного канона тут вытесняется установкой на соответствие высказывания высказываемому без оглядки на этот канон, в пределе – на какие бы то ни было канонические предписания и обычаи. Строй высказывания не берется из запаса уже найденных раньше заготовок, а каждый раз ищется заново и совершенно свободно, по собственной воле и усмотрению, в свете данного – и только данного – замысла да еще сугубо личных пристрастий, склонностей, навыков. Но это значит, что поколеблена исстари сложившаяся, из поколения в поколение принимавшаяся на веру убежденность, будто всякому, кто вознамерился быть лириком и взялся за перо, заведомо надлежит удерживаться в рамках не коего – пусть весьма обширного, а все-таки охватываемого, «исчислимого» в своде ars poetica – набора просодических «изложниц», структурно родственных однажды выявленным и навсегда равным себе законосообразностям переживания миропорядка, будто любое, самое мимолетное и единственное в своем роде движение души обретает право на причастность к искусству поэзии лишь после того, как оно отлито в одной из заранее готовых «изложниц» – непременных ритмико-смысловых модусов лирического отклика на окружающее.