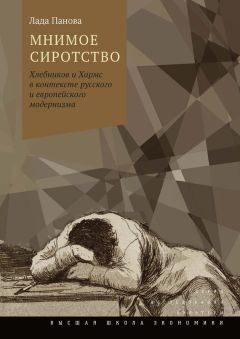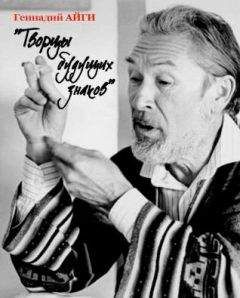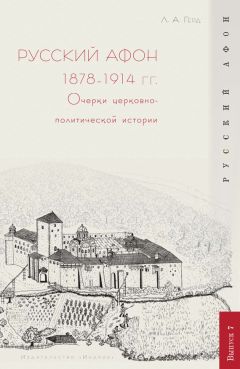Светлана Пискунова - От Пушкина до Пушкинского дома: очерки исторической поэтики русского романа
Герой романа – проблемное амбивалентное существо, которое Г. Лукач готов уподобить «демону» в специфическом, гётевском, понимании этого слова18. Впрочем, демоническое начало характеризует, скорее, героев плутовской линии развития романного жанра, по отношению к которому роман, созданный Сервантесом, изначально антагонистичен. С Дон Кихотом в большей степени согласуется другое рассуждение венгерского философа: «содержание романа, – писал Лукач, – составляет история души, идущей в мир, чтобы познать себя, ищущей приключений ради самоиспытания, чтобы в этом испытании обрести собственную меру и сущность»19. «Хитроумный идальго», обретший, в конце концов, свою меру в образе доброго христианина Алонсо Кихано, должен умереть в конце романа (или, напротив, роман должен закончиться с его смертью), так как добродетельный разумный Алонсо Кихано на роль героя романа никак не подходит.
Конечно, в романах могут быть герои-идеалы, но – не в качестве главных: Татьяна Ларина и не смешна, и «положительно прекрасна» (воистину – «милый идеал»!), но романа «Татьяна Ларина» быть не может. Как не может быть романа «Наташа Ростова». Или «Соня Мармеладова». Или «Платон Каратаев».
«Положительно прекрасные» герои и героини пришли в современный роман-novel не только из агиографии, но и из уже упоминавшейся до– и околороманной традиции romance. Безусловно «положительно прекрасны» все три героя «ромэнс» мадам де Лафайет «Принцесса Клевская». Или персонажи барочных пасторалей, как словесных, так и живописных: Асис и Галатея, столь заинтересовавшие Достоевского, – в их числе. Пастораль или идиллия, эта важнейшая, наряду с авантюрным «романом испытания», разновидность romance, вошла в состав новоевропейского романа на правах «тек ста в тексте», особого жанрового измерения бытия, особой подсветки романной по вседневности: «…мой идеал теперь – хозяйка да щей горшок…». Это и есть романная пародическая (или же заключенная в иронический контекст) идиллия… Таков жанровый ракурс20, в котором предстает жизнь стариков Лариных, быт старосветских помещиков, идиллическое существование обитателей Обломовки, довоенная жизнь семейства Ростовых…21
В английской литературе XVIII столетия симбиоз романа и идиллии вызвал к жизни особую разновидность романа – семейный роман, который, опять-таки благодаря Пушкину, утвердился в русской литературе к концу 1830-х – началу 1840-х годов. Но романы Достоевского – и это широко известно – романы по своему существу антисемейные. И в этом они могут быть уподоблены «Дон Кихоту», с которым было бы полезно сопоставить «Идиота» именно как роман, выйдя за пределы уже исчерпавшего себя внеконтекстуального сопоставления образов князя Мышкина и Дон Кихота22.
Ведь чисто характерологического сходства между двумя героями не так уж много. Как справедливо отмечает И. Л. Альми, «лик Дон Кихота» «непосредственно просматривается» «в лице книзя Мышкина» только в сцене вечера у Епанчиных в четвертой части, когда в очередной раз «переламывается» характер отношений князя с окружающими» и «с несвойственной ему ранее глухотой князь не чувствует реакции тех, с кем говорит», когда он, «подобно герою Сервантеса, видит несуществующее, принимает одно за другое»23.
Конечно, Мышкина и Дон Кихота роднят утопизм их личностных и общественных проектов, проходящий через оба романа, в своих истоках францисканский24, мотив «подражания Христу», гностическая тема нисхождения (падения Софии) и гностический же по происхождению идеал служения Вечной Женственности25, а также то, что Г. К. Щенников именует «христианским гуманизмом» Достоевского26.
Но значительно большее сходство можно обнаружить в строении двух романов. В этом плане интересны наблюдения, сделанные над структурой «Идиота» К. Степаняном27, который, развивая мысль М. Дунаева о том, что в «Идиоте» «мир двоится, теряет отчетливость», очень точно выявляет и анализирует пародийные образы, сцены, смыслы романа, в том числе и сориентированные на сцены и образы Евангелия. «…Случаи воскресения в романе, – отмечает исследователь, – выглядят или пародийно… или откровенно демонически: как в случае с „замороженным“ младенцем Сурикова… Это – как бы кульминация столь частых в этом романе видений, снов, смешений иллюзии и яви. Вплоть до полного отождествления их»28.
С предложенным К. Степаняном описанием структуры романа «Идиот», с его точными и тонкими наблюдениями над текстом Достоевского нельзя не согласиться. Нельзя не согласиться с тем, что повествователь в «Идиоте» (начиная со второй части романа) выглядит светским собирателем «слухов», «посторонним наблюдателем», имеющим «довольно мало сведений», гадающим, что из сообщенного им – правда, а что – ложь, иллюзия или выдумка»29. Именно таков многоликий автор в «Дон Кихоте», который сначала представляется перелагателем сведений о герое, сохранившихся в сочинениях неких «хронистов» из Ламанчи, а затем публикатором перевода купленной им на улице Толедо арабской рукописи, принадлежащей перу лживого толедского мавра Сида Ахмета Бененхели (при том что история, излагаемая мавром, аттестована как «доподлинная»). Роман Сервантеса выстроен в зоне неопределенности, пролегающей между областями «история» и «поэзия», истина и вымысел, слово и молчание… Эта зона и определяет строй романа как жанра, в особенности романа «сервантесовского типа», в котором само существование реальности (посюсторонней, земной, хотя Сервантес знал, что есть и иная) по ставлено в зависимость от устремленного на нее взгляда. Естественно, что перемещающиеся по плоскости романного повествования фигуры ряженого Рыцаря и его Оруженосца в совокупности с фигурами Росинанта и Серого (эта квадрига и держит путь по ламанчской равнине!) обрастают двойниками и пародийными подобиями, воспринимаются то в комическом, то в трагическом ракурсе, то как личины карнавальной глупости, то как воплощение христианско-гуманистической мудрости и крестьянского здравого смысла. Сама же «реальность» открывается читателю «Дон Кихота» то как пыльная ламанчская дорога, то как фантастическое государство Кандайя… Сплошная двойственность, амбивалентность художественного мира «Дон Кихота» давно зафиксирована и описана в сервантистике30. Так что выявленные К. Степаняном структурные особенности романа Достоевского по всем основным параметрам совпадают с поэтикой канонического образца романного жанра – «Дон Кихота».
Но К. Степанян воспринимает эти особенности «Идиота», если не как явные недостатки романа, то как отступление Достоевского от некоего, якобы присущего писателю-христианину принципа воссоздания действительности, «при котором метафизическая реальность… постоянно просвечивает сквозь происходящее» и тогда «воссоздаваемая реальность становится частью мира, центром которого является Бог»31. Однако «в центре» «Идиота» (к вопросу об этом «центре» мы еще вернемся) – не Бог, а христоподобная фигура (уподобление же – и здесь критик совершенно прав! – провоцирует пародию), «всего лишь человек». Именно поэтому «Идиот» является романом, а не иконой, какие бы иконические мотивы и образы ни использовались Достоевским в процессе реализации своих романных замыслов. Характерно, что в сохранившихся подготовительных материалах к «Идиоту» – кроме помет на полях «Князь Христос» и записи от 16 марта 1868 года «евангельское прощение в церкви блудницы» – никаких следов «метафизической реальности», которая в интерпретации К. Степаняна должна поглощать все другие (земной мир романа является-де «частью» метафизического), нет: есть свидетельства напряженного поиска романической интриги, сюжетных сцеплений, психологических казусов… Есть отголоски газетных публикаций и политических споров. Есть приметы постепенного вызревания идеи – сориентировать роман на донкихотскую ситуацию – но не непосредственно на образ Дон Кихота, а на комизм донкихотского положения: в заметке от 31 марта «Синтез романа. Разрешение затруднения» Дон Кихот упоминается вместе с Пиквиком как пример «добродетельного лица»; значит, для Достоевского важен не герой Сервантеса и не герой Диккенса как таковые, а то, что объединяет обоих персонажей – повторяющееся сюжетное положение, в котором проявляется комическое несовпадение мировидения и поведения героя и условностей окружающего мира. «Невинность» Мышкина должна была, по замыслу писателя, произвести на читателя тот же эффект, что и несообразности облика и поступков Дон Кихота (или Пиквика).
При этом ясно, что писатель в записи в рабочей тетради уясняет для себя уже сложившийся строй романа, первая часть которого не только написана, но и опубликована. Следы донкихотского сюжета-ситуации обнаруживаются уже в ней, где, по наблюдению В. Викторовича, «ощутима ситуативная однородность составляющих ее сюжетных эпизодов… Это – ситуации встреч Мышкина с Рогожиным, с семейством Епанчиных, семейством Иволгиных и, наконец, с Настасьей Филипповной»32. Явление Мышкина в Петербург так же нарушает сложившийся ход жизни его обитателей, как и выезд Дон Кихота на ламанчскую дорогу в поисках приключений. Но князь ищет не приключений, а хоть какого-нибудь заработка, имея в кармане… письмо-извещение о том, что он стал наследником огромного состояния. Необъяснимость поведения князя вызывает у окружающих естественную защитную реакцию: «Идиот!». Идиот – не безумец, не тот, кто утратил разум: идиоту утрачивать нечего.