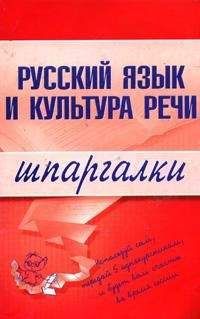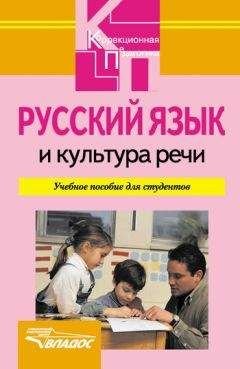Александр Гуревич - «Свободная стихия». Статьи о творчестве Пушкина
От критики «высшего света» поэт переходит теперь к прямому обличению европейской цивилизации – всей «городской» культуры. Она предстает в «Цыганах» как скопище тягчайших нравственных пороков, мир стяжательства и рабства, как царство скуки и томительного однообразия жизни.
… Когда б ты знала,
Когда бы ты воображала
Неволю душных городов!
Там люди, в кучах за оградой,
Не дышат утренней прохладой.
Ни вешним запахом лугов;
Любви стыдятся, мысли гонят,
Торгуют волею своей,
Главы пред идолами клонят
И просят денег да цепей.
– в таких выражениях рассказывает Алеко Земфире «о том, что бросил навсегда».
Значительно углубляется и конфликт героя с обществом. Пленник – изгнанник добровольный и, так сказать, временный; его разочарование не столь всеобъемлюще и сильно: в неволе он предастся чувствительным воспоминаниям о прошлом, о прежней любви, а в финале поэмы «воскресает» сердцем. Иное дело – Алеко. Он вступает с окружающим миром в конфликт острый и непримиримый («его преследует закон», рассказывает отцу Земфира), он порывает с ним всякие связи и не помышляет о возвращении назад, а его приход в цыганский табор – настоящий бунт против общества.
В «Цыганах», наконец, гораздо определеннее и резче противостоят друг другу патриархальный «естественный» уклад и мир цивилизации. Они предстают как воплощение свободы и рабства, ярких, искренних чувств и «мертвых нег», неприхотливой бедности и праздной роскоши. В цыганском таборе
Все скудно, дико, все нестройно;
Но все так живо-непокойно,
Так чуждо мертвых наших нег,
Так чуждо этой жизни праздной,
Как песнь рабов однообразной!
Мысль о нравственном превосходстве анархической вольности цыганского табора над «неволей душных городов» выражена в поэме совершенно недвусмысленно и предельно ясно.
Итак, «естественная» среда в «Цыганах» изображена – впервые в южных поэмах – как стихия свободы. Не случайно «хищные» и воинственные черкесы заменены здесь вольными, но «мирными» цыганами, которые «робки и добры душою». Ведь даже за страшное двойное убийство Алеко поплатился лишь изгнанием из табора. Но сама свобода осознается теперь как мучительная проблема, как сложная нравственно-психологическая категория. В «Цыганах» Пушкин выразил новое представление о характере героя-индивидуалиста, о свободе личности вообще.
«На место внешнего противоречия свободы и неволи («Кавказский пленник») является в «Цыганах» внутреннее противоречие его свободы и их воли…», – афористически точно формулирует суть этой новой ситуации С. Г. Бочаров [12. С. 11]. Отсюда и «перевернутые» отношения героя и патриархального мира.
В «Кавказском пленнике» нравственная свобода покупалась ценою неволи. Напротив, Алеко, придя к «сынам природы», получает полнейшую внешнюю свободу: «он волен так же, как они». В отличие от Пленника, наблюдавшего жизнь горцев со стороны, Алеко готов слиться с цыганами, жить их жизнью, подчиняться их обычаям. «Он любит их ночлегов сени, / И упоенье вечной лени, / И бедный, звучный их язык». Он ест с ними «нежатое пшено», водит по селам медведя, находит счастье в любви Земфиры. Сумеет ли он в столь благоприятных, почти идеальных условиях обрести свободу внутреннюю? Вот главный вопрос, на который должна ответить поэма. Центр тяжести конфликта переносится в глубь человеческой души.
При этом Пушкин крайне озабочен «чистотой эксперимента». Он решительно убирает все случайное, затемняющее суть дела. Суммируем изменения, внесенные им в сюжет «Цыган» сравнительно с «Кавказским пленником».
Жестокие черкесы заменены «мирными» цыганами. Устранен мотив внешней несвободы – рабства героя.
Разрыв героя с цивилизованным обществом представлен как полный и окончательный.
Отсутствует тема неразделенной любви – дополнительная мотивировка его разочарования.
Словом, поэт снимает как будто бы все преграды на пути героя в новый для него мир.
Тем не менее Алеко не дано насладиться счастьем и узнать вкус подлинной свободы. В нем по-прежнему живут характерные черты романтического индивидуалиста: гордыня, своеволие, чувство превосходства над другими людьми. Даже мирная жизнь в цыганском таборе не может заставить его забыть о пережитых бурях, о славе и роскоши, о соблазнах европейской цивилизации:
Его порой волшебной славы
Манила дальная звезда,
Нежданно роскошь и забавы
К нему являлись иногда;
Над одинокой головою
И гром нередко грохотал…
Главное же – Алеко не в силах побороть мятежные страсти, бушующие «в его измученной груди». И не случайно автор предупреждает читателя о приближении неизбежной катастрофы – нового взрыва страстей («Они проснутся: погоди»).
Неизбежность трагической развязки коренится, таким образом, в самой натуре героя, отравленного европейской цивилизацией, всем ее духом. Казалось бы, полностью слившийся с вольной цыганской общиной, он все-таки остается ей внутренне чуждым. От него требовалось вроде бы совсем немного: чтобы, как истинный цыган, он «гнезда надежного не знал и ни к чему не привыкал». Но Алеко не может «не привыкать», не может жить без Земфиры и ее любви. Ему кажется естественным даже и от нее требовать постоянства и верности, считать, что она всецело принадлежит ему:
Не изменись, мой нежный друг!
А я… одно мое желанье
С тобой делить любовь, досуг,
И добровольное изгнанье.
«Ты для него дороже мира», – разъясняет дочери Старый цыган причину и смысл безумной ревности Алеко.
Именно эта всепоглощающая страсть, неприятие какого-либо другого взгляда на жизнь и любовь и делают Алеко несвободным внутренне. Тут-то и проявляется наиболее ярко противоречие «его свободы и их воли». А не будучи свободен сам, он неизбежно становится тираном и деспотом по отношению к другим. Трагедии героя придается тем самым острый идеологический смысл. Дело, значит, не просто в том, что Алеко не может справиться со своими страстями. Он не может преодолеть узкое, ограниченное представление о свободе, свойственное ему как человеку цивилизации. В патриархальную среду приносит он взгляды, нормы и предрассудки «просвещения» – оставленного им мира. Поэтому он и считает себя вправе мстить Земфире за ее вольную любовь к Молодому цыгану, жестоко покарать их обоих. Оборотной стороной его свободолюбивых стремлений неизбежно оказываются эгоизм и произвол.
Лучше всего свидетельствует об этом спор Алеко со Старым цыганом – спор, в котором обнаруживается полное взаимное непонимание: ведь у цыган нет ни закона, ни собственности («Мы дики, нет у нас законов», – скажет в финале Старый цыган), нет у них и понятия о праве.
Желая утешить Алеко, старик рассказывает ему «повесть о самом себе» – об измене любимой жены Мариулы, матери Земфиры. Убежденный, что любовь чужда всякому принуждению или насилию, он спокойно и твердо переносит свое несчастье. В том, что произошло, он видит даже роковую неизбежность – проявление вечного закона жизни: «Чредою всем дается радость; / Что было, то не будет вновь». Вот этого мудрого спокойствия, безропотного смирения перед лицом высшей силы не может ни понять, ни принять Алеко:
Да как же ты не поспешил
Тотчас вослед неблагодарной
И хищникам и ей, коварной,
Кинжала в сердце не вонзил?
. . . .
Я не таков. Нет, я не споря
От прав моих не откажусь!
Или хоть мщеньем наслажусь.
Особенно примечательны рассуждения Алеко о том, что для защиты своих «прав» он способен уничтожить даже спящего врага, столкнуть его в «бездну моря» и наслаждаться шумом его падения. Пассаж этот представляет, конечно, скрытую полемику с Байроном. В поэме «Корсар», которую особенно любил Пушкин, ее главный герой Конрад готов отказаться от побега из плена (хотя наутро его ждет казнь!) только потому, что ему при этом придется умертвить своего злейшего врага, пашу Сеида, но умертвить спящим! И вот поступок, немыслимый для Конрада, кажется Алеко естественным и «нормальным».
Но мщение, насилие и свобода, думает Старый цыган, несовместимы. Ибо подлинная свобода предполагает прежде всего уважение к другому человеку, к его личности, его чувству. В финале поэмы он не только бросает Алеко обвинение в эгоизме («Ты для себя лишь хочешь воли»), но и подчеркивает несовместимость его убеждений и нравственных принципов с подлинно свободной моралью цыганского табора («Ты не рожден для дикой доли»).
Смелый и неожиданный вывод, к которому приходит Пушкин в «Цыганах», состоит, следовательно, в том, что истинная свобода романтическому герою не по плечу!
Надо сказать, что вопрос о пушкинской оценке Алеко – один из спорных в нашем литературоведении. С. М. Бонди, например, увидел в поэме «разоблачение романтического героя», его «эгоистической сущности» [14. С. 42, 26]. Против формулы о развенчании Алеко решительно выступил другой виднейший пушкинист – Б. В. Томашевский, назвавший ее «ложной традицией».