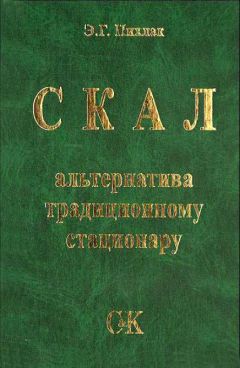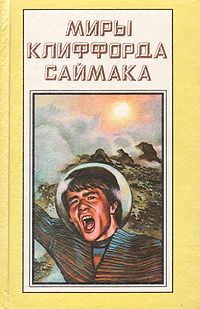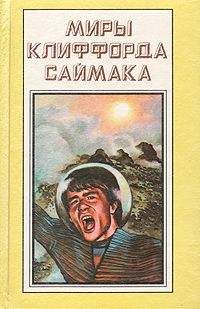Юрий Лотман - Пушкин
1975
Образы природных стихий в русской литературе (Пушкин — Достоевский — Блок)[777]
1. Культурное освоение мифологического наследия в последующей традиции возможно в двух планах: а) в плане «лексики» (мифологической номинации) и б) в плане синтаксиса (мифологической структуры повествования). Позитивистская концепция прогресса, господствовавшая в литературоведении XIX в., рассматривала этот процесс как постепенную «демифологизацию» — освобождение культурного сознания от мифологических форм. История культуры в ее нынешнем состоянии раскрыла в этом процессе значительно большую сложность и противоречивость: этапы отталкивания и сближения сложно переплетаются в динамическом развитии культуры. Однако в аспекте избранной нами темы важно подчеркнуть неравномерность протекания этих процессов на двух названных выше уровнях: номинации и синтаксиса Пики «сближении» и «отталкивании» здесь могут отнюдь не совпадать.
1.1. Стремление к «демифологизации» — ощутимая тенденция европейской культуры нового времени. Обычно «эпицентром» ее считается XIX в. — век реализма в искусстве и позитивного знания в науке. В области искусстве такое мнение подкрепляется ссылкой на подчеркнуто бытовой характер реалистических текстов, что воспринималось самими носителями данной куль туры как антитеза мифолого-романтических образов и сюжетов. Однако в области номинации «пик» демифологизации приходится на аллегорическое искусство XVIII столетия. Это может показаться странным, поскольку тематически такое искусство предельно насыщено мифологией. Тем более существенно, что вместо мифологической слитности содержания и выражения принципа всеобщего изоморфизма текстов разных уровней в аллегории господствует разделение планов содержания и выражения и условное, конвенциональное их соотнесение. Каждый аллегорический образ может быть рационально переведен на неаллегорический язык (что для мифологически} текстов в принципе исключается), а текст строится как соединение атомарных аллегорических образов, а не как их всеобщий изоморфизм. В этом смысле аллегорическое искусство XVIII в. (рококо, отчасти — классицизм) на данном уровне предельно удалено от принципов мифологизма. Однозначный «терминологический» характер аллегорий резко ограничивает число возможных да; них контекстов. Следовательно, поле возможных переосмыслений и новых про чтений образа резко сужено. Текст может (в предельном случае) или быть поют адекватно, или отброшен. Активность читательской интерпретации приглушена.
1.2. Бытовая ориентация русского реализма с самых его истоков — Пушкина и Гоголя — имела сложный характер. К художественному текст предъявлялись требования, чтобы он был правдивым и значимым. В свет первого требования функция бытовой детали состояла в том, чтобы доказать истинность художественного сообщения: деталь могла не иметь иного значения, кроме утверждения читателя в вере в подлинность рассказанного. Bо втором отношении существенно было выделение в реальном мире сфера явления и сущности. Бытовая деталь (явление) — носитель некоторого сущьностного значения, которое раскрывается через нее и только через нее Сущность же могла мыслиться как некоторая идея или же некоторый tckci то есть выступать в роли устройства, кодирующего сферу бытового изображения. Так, например, в «Гамлете Щигровского уезда» Тургенева Василий Васильевич кодирован образом Гамлета, который выступает как бы скрыто! сущностью, выражающей себя в герое тургеневского рассказа. Возможность соотнесения поверхностного бытового слоя текста с глубинным — предельно обобщенным — создает потенцию демифологизации на одном уровне и мифологизации на другом. Элементы бытового повествования выступаю как поверхностная «лексика», а скрытый кодирующий текст — как механизм порождения. Следовательно, мифологический субстрат перемещается на синтаксический уровень. Вместе с тем, в отличие от поверхностных аллегорических мифологий XVIII в., глубинные мифологические единицы реалистического текста многозначны, могут входить в огромное число контекстов, сложно перекодироваться, что в принципе обеспечивает им множественность прочтений. В этом причина того, что «мифологизирующие» прочтения традиции в XX в., в частности — символистские интерпретации, находили обильную почву в реалистическом искусстве XIX в. от Пушкина и Гоголя до Толстого и Достоевского и полностью игнорировали додержавинский XVIII в., который был «открыт» акмеизмом.
2. Активизация мифологических структур в художественном сознании Достоевского, отмеченная еще Вяч. И. Ивановым и рассмотренная в современном литературоведении В. Н. Топоровым, определила его интерес к имеющим архаический генезис образам природных стихий (Земля — Вода — Огонь — Воздух)[778]. Образы стихий у Достоевского отчетливо ориентированы на Пушкина. Ср. воздушную стихию в «Бесах» Пушкина и Достоевского, роль образов воды и ее вариантов (лед, пар) в петербургских романах и повестях Достоевского и в созданном им с прямой опорой на «Медного всадника» авторском «мифе о Петербурге», сближение стихий огня (пожара) и бунта в традициях «Дубровского» и т. д.
2.1. Семантический мир Пушкина двухслоен. Мир вещей, культурных реалий составляет его внутренний слой, мир стихий — внешний (в целях краткости мы сознательно упрощаем: мир Пушкина иерархичен, мы выбираем два пласта из его семантической иерархии, ориентируясь на рассматриваемую проблему). Отношение этих пластов к глубинному слою значений, то есть степень их символизации, не одинакова и необычна: у Пушкина в гораздо большей степени символизирован внутренний, бытовой, интимный, культурный пласт семантики, чем внешний — стихийный и природный. Такие слова, как «дом» («лом родной» — признак интимности, «дом маленький, тесный» — «избушка ветхая» — признаки тесноты, близости, малости, принадлежности к тесному, непарадному миру)[779], «кружка», «хозяйка», «щей горшок», «чернильница моя», равно как весь мир вещей в «Евгении Онегине» или «Пиковой даме», оказываются напитанными разнообразными и сложными смыслами. Наиболее значим и многозначен именно внутренний мир вещей, тот, который расположен по эту сторону черты, отделяющей быт от стихии. Когда речь идет о границе, черте раздела («границе владений дедовских», «недоступной черте», разделяющей живых и мертвых), то актуализируется именно то, что находится по эту сторону ее. Силы стихии, расположенные за чертой мира культуры, памяти, творческих созданий человека, появляются в поле зрения: а) в момент катастрофы; б) не на своей территории, а вторгаясь в культурное пространство созданных человеком предметов. Отсюда их параллелизм образам смерти у Пушкина: как и вторгающиеся стихии, потусторонние тени, загробные выходцы появляются в момент катастроф и, переходя «недоступную черту», оказываются в чуждом им пространстве. В этом смысле для всей просветительской культуры существен образ Галатеи: борьба со стихией (камнем) одновременно оказывается борьбой со смертью — оживлением. Образ этот важен для XVIII в. (Руссо, Фальконе), для Баратынского и соотносится с мифологией статуи у Пушкина[780].
2.2. Именно поэтому мир предметов дан у Пушкина с исключительной конкретностью и разнообразием: исполняя функцию культурной символики, он нигде не играет декоративной роли и не стирается до уровня нейтральных деталей. Бытовые реалии впаяны каждый раз в конкретную эпоху и вне этого контекста немыслимы. Напротив того, стихии: наводнение, пожар, метель — в определенном смысле синонимичны. Значения их менее конкретизированы, менее связаны с каким-либо определенным контекстом и поэтому сохраняют возможность большей широты читательских интерпретаций.
3. Антитеза быта и катастрофы (дом, унесенный наводнением) сменяется у Достоевского катастрофой, ставшей бытом. Образ быта претерпевает важные изменения: а) быт берется в момент разрушения. Чем благополучнее он с виду, тем ближе его гибель (обреченность вазы в доме Епанчиных); б) быт иллюзорен и фантасмагоричен (например, история покупок Голядкина; изображение обыденного как фантасмагорического восходит к Гоголю, ср. в «Невском проспекте» картину скромной и мирной жизни как возможной только в опиумном бреду); в) изображенный нищий быт — это, по существу, антибыт (ср.: «Вещи бедных — попросту — души» — М. Цветаева). Быт истончается, просвечивает символами. Двум целостным пушкинским мирам: быта и стихии — у Достоевского противостоит хаотическая смесь обрывков разорванного быта с пронизывающей их стихией. Характерно изменение образа дома: холодный, разрушающийся, всегда чужой и враждебный всему интимному, это — псевдодом, «мертвый дом», сквозь который просвечивают контуры дантовского ада. Меняется и мир стихий. Во-первых, появляется образ стихий длящихся. Например, большое значение получает образ холода, идущий от «Шинели» Гоголя и разработанный в системе натуральной школы как синоним нищеты (в равной мере у Достоевского на смену мгновенной смерти приходит мотив длящейся смерти: голод, нищета, болезни). Мгновенное и длящееся (катастрофа и непрерывная гибель) не противостоят друг другу, а выступают как синонимы катастрофичности. Холод и пожар, голод и смерть — не антонимы, а синонимы. К длящимся стихиям относится и сон Восприятие сна как «пятой стихии» имело до Достоевского устойчивую традицию (немецкие романтики, Тютчев; ср: