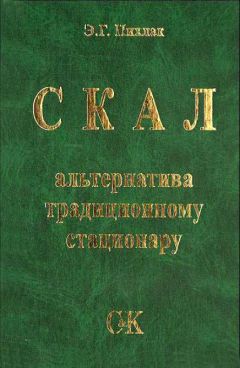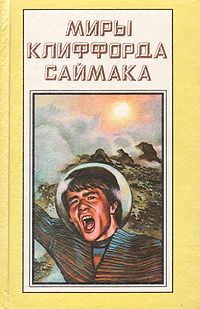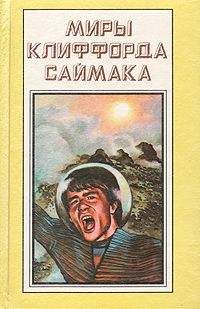Юрий Лотман - Пушкин
Между тем в поведении Германна, когда он сделался игроком, доминирует стремление к мгновенному и экономически не обусловленному обогащению: «…когда сон им овладел, ему пригрезились карты, зеленый стол, кипы ассигнаций и груды червонцев. Он ставил карту за картой, гнул углы решительно, выигрывал беспрестанно, и загребал к себе золото, и клал ассигнации в карман» (VIII, 236). Мгновенное появление и исчезновение «фантастического богатства» (VIII, 236) характеризует и Чичикова. Причем если в Германце борются расчет и азарт, в Чичикове побеждает расчет, то в Кречинском берет верх азарт (ср. слова Федора: «А когда в Петербурге-то жили — Господи, Боже мой! — что денег-то бывало! какая игра-то была!.. И ведь он целый век все такой-то был: деньги — ему солома, дрова какие-то. Еще в университете кутил порядком, а как вышел из университету, тут и пошло и пошло, как водоворот какой! Знакомство, графы, князья, дружество, попойки, картеж»[759]. Ср. пародийное снижение в словах Расплюева: «Деньги… карты… судьба… счастие… злой, страшный бред!..»[760]). Оборотной стороной этой традиции будет превращение «русского немца» Германна в другого «русского немца» — Андрея Штольца.
Рассматривать сюжетную коллизию «Пиковой дамы» во всей ее сложности здесь было бы неуместно, тем более что вопрос этот неоднократно делался предметом анализа[761]. Можно согласиться с рядом исследователей, усматривающих в конфликте Германна и старой графини столкновение эпохи 1770-х и 1830-х гг., эпохи «фарфоровых пастушек, столовых часов работы славного Leroy, коробочек, рулеток, вееров и разных дамских игрушек», изобретенных в XVIII в. «вместе с Монгольфьеровым шаром и Месмеровым магнетизмом» (VIII, 240), и денежного века. Можно указать, что сюжетным языком для построения этого исторического конфликта избрано столкновение двух поколений, так же, как это сделано в «Скупом рыцаре» или «К вельможе»; можно было бы рассмотреть сквозь эту сюжетную коллизию древний архетип борьбы родителей и сына[762].
Однако нас сейчас интересует не это, а значительно более частный вопрос: какое влияние на данный тип сюжета оказало то исторически неизбежное, но типологически случайное обстоятельство, что механизмом, движущим сюжет, стали карты.
Тема карточной игры вводит в механизм сюжета, в звено, заключенное между побуждениями героя и результатами его действий, случай, непредсказуемый ход событий. Случайность становится и механизмом сюжета, и объектом размышлений героя и автора. Сюжет начинает строиться как приближение героя к цели, за которым следует неожиданная катастрофа («вдруг — помешательство» у Гоголя, «Сорвалось!!!» Кречинского у Сухово-Кобылина).
Следствием заданного механизма сюжета становится характеристика героя как волевой личности, стремящейся в броуновом движении окружающей жизни к цели, которую он перед собой поставил. «Вероятностная» картина мира, представление о том, что жизнью правит Случай, открывает перед отдельной личностью возможности неограниченного успеха и резко разделяет людей на пассивных рабов обстоятельств и «людей Рока», чей облик в европейской культуре первой половины XIX в. неизменно ассоциируется с Наполеоном. Такая характеристика героя требует, чтобы в тексте рядом с ним находился персонаж страдательный, в отношениях с которым герой раскрывает свои бонапартовские свойства. В другом аспекте сюжетного построения герой будет соотнесен с Игрой и той силой, которая эту игру ведет. Сила эта — иррациональная по самой сущности отношений банкомета и понтера — легко будет истолковываться как инфернальная, смеющаяся над героем наполеоновского типа и играющая им. Так определяется сюжетная необходимость цепочки героев: Лиза — Германн — старая графиня, которая позже, породив определенную традицию в русской прозе, отразится в ряду персонажей: Соня — Раскольников — старуха-процентщица[763].
Однако вопрос этот усложняется тем, что старая графиня выступает в повести Пушкина в двух различных функциях: как жертва Германна и как представитель тех сил, с которыми Германн ведет игру («Я пришла к тебе против своей воли…», «мне ведено…» — VIII, 247).
Влияние темы карт на сюжет «Пиковой дамы» проявляется в столкновении случайного и закономерного и в самой трактовке понятия случайности. Германн — инженер с точным и холодным умом. В сознании Германна сталкиваются расчет и азарт. Однако сам себя Германн осмысляет в облике бесстрастного автоматического разума. Он хотел бы изгнать случай из мира и своей судьбы. За зеленое сукно он может сесть лишь для игры наверное. Этический аспект действий его не тревожит. Свое credo он излагает на первой же странице повести во фразе, замечательной строгой логичностью, точностью выражения и полной нейтральностью стиля, столь резко выделяющимися на фоне экспрессивных речей других игроков: «Игра занимает меня сильно, — сказал Германн, — но я не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее» (VIII, 227). «Расчет, умеренность и трудолюбие: вот мои три верные карты», — размышляет он дальше (VIII, 235). Расчет стоит на первом месте. Германн не только не может надеяться на случай — он отвергает само его существование: «Случай! — сказал один из гостей. — Сказка! — заметил Германн» (VIII, 229).
Пушкин подчеркивает, что голова Германна остается холодной даже в момент высшего напряжения страстей и фантазии. Так, после посещения его призраком он «возвратился в свою комнату, засветил свечку и записал свое видение» (VIII, 248). После первого выигрыша, который был не только осуществлением мечты о богатстве, но и свидетельством реальности сверхъестественных явлений, означая, что тайна трех карт действительно существует, а явление старухи не было галлюцинацией разгоряченного воображения, «Германн выпил стакан лимонаду и отправился домой» (VIII, 251). Германн рожден для такого поединка с судьбой, где пригодятся его холодный ум и железный расчет, для интеллектуального соревнования с миром. Не случайно рядом с мотивом расчета через повесть проходит другой — коммерческой игры: ведь поединок Германна и Чекалинского сопровождается параллельным изображением игры другого типа, развертываемой в соседней комнате: «Несколько генералов и тайных советников играли в вист» (первый день игры Германна); «Генералы и тайные советники оставили свой вист, чтоб видеть игру, столь необыкновенную» (третий день — VIII, 249 и 251). При этом очевидно, что вист, который еще у Страхова числится как игра «в службе степенных и солидных людей», — не средство быстрого и немотивированного обогащения. Но Германн — человек двойной природы, русский немец, с холодным умом и пламенным воображением, — жаждет внезапного обогащения. Это заставляет его вступить в чуждую для него сферу Случая.
Насмешку над верой в разумность мира А. Сухово-Кобылин выразил в 1869 г. эпиграфом, который он поставил перед своей трилогией: «Wer die Natur mit Vemunft ansieht, den sieht sie auch vemunftig an. Hegel, Logik. Как аукнется, так и откликнется. Русский перевод». Германн, стремившийся смотреть на мир «mit Vernunft», вынужден действовать в условиях случайного, вероятностного мира, который для отдельного существа, наблюдающего лишь незначительные фрагменты отдельных процессов, выглядит как хаотический. Необходимость избрать эффективную тактику в условиях мира, который дает о себе слишком незначительную информацию (и именно поэтому моделируется фараоном), заставляет Германна обращаться к приметам («Имея мало истинной веры, он имел множество предрассудков» — VIII, 246). В. В. Виноградов проницательно указал на эквивалентность, в этом отношении, сюжетов, построенных на математическом или мистическом проникновении в тайну «верной карты». И математика, и кабалистика выступают здесь в единой функции — как средство изгнать Случай из его собственного царства. Стремление «найти твердые математические формулы и законы для случаев выигрыша, освободить игру от власти случая и случайности» в общей системе играло ту же роль, что и «мистическое отношение к картам, приносящим выигрыш»[764].
Однако если фараон делается идеальной моделью конфликтной ситуации «человек — внешний мир», то становится очевидным, что вероятность выигрыша у сторон различна. Обладая неисчерпаемым запасом времени неограниченной возможностью возобновлять игру, внешний мир неизбежно переигрывает каждого отдельного человека. В ту минуту, когда Герман кажется, что он играет (причем — наверняка), оказывается, что им играю Это подчеркивается сложной структурой сюжета. В первой части глав Герман ведет игру с партнерами, которые находятся в его власти (Лиза, стар. графиня в сцене в спальне). Лиза думает, что с ней играют в одну игр (слово «игра» означает здесь совсем не степень искренности чувств, a познание типа поведения и выбор своей ответной системы действий) любовь. Германн действительно имитирует этот тип поведения, тщательно воспроизводя утвержденный литературной традицией ритуал «осады сердца: стояние под окном, писание любовных писем и т. п. Залог успеха Герман в том, что он играет в совсем другую игру, сущность и правила которого остаются Лизе до последней минуты непонятными. Тем самым он превращает ее из партнера в орудие. Ситуация в спальне графини сложнее: Германн и здесь пытается предложить собеседнику ложный ход — партнерство в целом наборе игр: он заранее готов стать любовником старух! взывает к «чувствам супруги, любовницы, матери», заранее зная, что он-то на самом деле будет вести совсем другую игру — борьбу за свое обогащение, в которой графиня должна выступить в качестве орудия, а в партнера[765]. Однако старая графиня, которая за минуту до появления Германа «сидела вся желтая, шевеля отвислыми губами, качаясь направо налево (курсив мой. — Ю. Л.)» (VIII, 240), — уже не только человек, ни карта, орудие, однако не в игре Германна, а в чьей-то другой, в которого сам Германн окажется игрушкой.