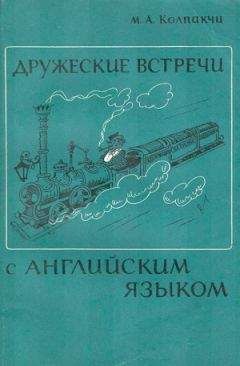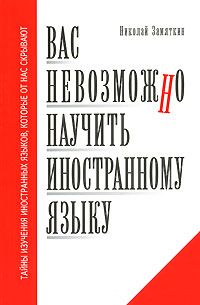Ирина Роднянская - Движение литературы. Том II
Что ж, в этой досаде на ненадежность культуры есть правда, и такая, рядом с которой тускнеют несколько лицемерные рекомендации вышеупомянутого строгого критика: «Забывать права не имеем. Никого». Память культуры ограничена, одной рукой она пишет, а другой стирает, ей не под силу сохранить тепло и сердцебиение каждого личного мира внутри необъятной исторической вселенной – все мы со временем станем «рисунком стертым», а от очень немногих, избегнувших тлена, не останется ли ущербленный образ, «верхняя треть», как от классика, стоящего на школьном шкафу в виде бюста («Так чучело ставят, бекаса, сову»)? Быть может, многочисленные историко-культурные мотивы у Кушнера потому так свежи, горьки, остры, «современны», что всегда обнаруживают свою недостаточность, незакругленность перед лицом чего-то более полнозначного?
Но чего же? Любви? «Любил – и стоял к механизму пружин / земных и небесных так близко, как позже / уже не случалось…» Прекрасные стихи о любви, несчастной, одаряющей, бросающей избранника в трепет, писались Кушнером на протяжении долгих лет; в них любовь почти отождествлена с Жизнью, с ее осмысленностью и радостной «бессмыслицей» (неприглаженностью, непредвиденностью). Но… в глубине души он, кажется, полагает, что преходящий пыл чувства – такое же сомнительное «средство от забвения», как и округлые культурные слепки с живого бытия. «На волос был от жизни вечной. Но – сорвалось!» – прощаясь с любовью, неожиданно повторяет поэт реплику Кречинского, его кривую усмешку и с той же откровенностью просит жизнь вернуть ему любовную «систему иллюзий»: «Еще какой-нибудь миражик заведи».
Признаки усталой вытруженности души, приметы перехода от влажной душевной стихии к «сухой», проглядывающие в «Канве», я готова отнести на счет того типичного склада, который поостерегусь называть «интеллигентским», но которому, во всяком случае, не однажды приходилось возвращаться на круги своя с пустыми руками. Уж как близка мне кушнеровская защита душевного, личного, приватного от настигающих нас повсюду тотальных абстракций и его задумчивость, не желающая подхлестывать себя бодрой хворостинкой, и его порой тихо-саркастическая, но всегда благородная интонация, и его ум, чуждый рационализма, но неподатливый на горячечные иллюзии, и, главное, дух внутренней свободы, витающий над его поэзией, а все же фетовская строфа в эпиграфе выбрана ему в укор.
«Не жизни жаль с томительным дыханьем…», – восклицает этот уединеннейший и элегичнейший жизнепоклонник. Кушнеру очень жаль жизни, того, как она проходит, ускользает и, будоража, снова и снова обманывает. «Смерть» в его стихах – просто имя безвозвратного исчезновения, а «Жизнь» – лицо, женщина, неразгаданная, непоследовательная, в чем-то вульгарная и ущербная, но единственная, дражайшая, сверхценная.
Если есть в «Канве» канва, то это романические отношения с жизнью, с чистой жизненностью, которой так не хватает «интеллигенту» и, сочетавшись с которой, он надеется утолить сомнения насчет смысла своего присутствия на земле. Все, что вне и над этой приманкой, от Данте до Достоевского, от «роковых снов» до «будущей жизни», Кушнер сдержанным, но решительным жестом отклоняет как подозрительную надсаду, угрожающую личной свободе и достоинству («И за словом, на два тона / Взятым выше, – смрад обмана… В этом дыме, в этом смраде / Ловят нас и рвут на части»). Но, может, вслушается он в соловьиный голос Фета, безусловно, звучащий «на два тона» выше произвольно назначенного Кушнером уровня искренности: «Не жизни жаль… А жаль того огня, / Что просиял над целым мирозданьем…» Это огонь духа, которому покорна сама жизнь с ее воздушностью и влагой, в котором горит, не сгорая, ласточка-душа. Как все укрупняется при одном упоминании о нем!
Подняться над ватерлинией Жизни, поверить: ты не «листок, что корчится под снегом, леденея», даже, быть может, пренебречь своим «тихим достоинством» и «продрогшей честью», затосковать по бессмертию, как тоскует в этих строках Фет…
Но будто в ответ слышится:
Прощай, моя радость! До кладбища ос.
До свалки жуков, до погоста слепней,
До царства Плутона, до высохших слез,
До блеклых, в цветах, элизийских полей!
Эта осенняя меланхолия не лишена стоического самообладания и, значит, красоты. А все-таки жаль огня!
3
P. S. «Ворсистый смысл»
Когда наступит литературное «после нас», куда мы надеемся передать с десяток авторских имен, стихи в возможных изданиях Кушнера, верно, будут печатать в «хронологическом порядке», как думаю, и пристало знакомить с серьезными поэтами, чье становление имеет свой смысл и интерес, Сами же поэты двадцатого века – взять хоть бы Анненского и тем более Блока – предпочитают компоновать «путь» задним числом, вкладывая в расположение стихов определенную концепцию, захватившую их в момент составления книги. Это их право, но у читателей тут могут быть собственные мнения и воспоминания.
Кушнер сложил свой сравнительно полный томик «Стихотворений» (1986) таким образом, чтобы первые его пять поэтических тетрадей 1962–1975 годов очутились, можно сказать, в приложении. Он подсказывает: вот «зрелость» – начавшаяся с книжек последнего десятилетия – с «Голоса» (1978) и «Таврического сада:» (1984), а то была юная, наивная пора. Критическая же, кризисная грань между тем и другим этапом означала, по мысли поэта-составителя, просто переход к «новом ракурсу» («Ты перечтешь меня за этот угол зренья. / Все дело в ракурсе, а он и вправду нов», «… смутную истому / На новый взгляд сменю и полнокровный стих»). Переход к взгляду на вещи, подсказанному уже не «влюбленностью» (склонностью «видеть все в искаженном слепящем свете»), а зрячей любовью; не ревнивыми препирательствами с Жизнью, а доверием к ее полноте, объемлющей и трепет единичного листка, и грандиозную эволюцию живой массы; не тревожным томлением средь ребусов истории, а согласием с ее ритмами, обладающими, подобно накатам прибоя и полету облаков, своей прихотливой эстетикой (и сегодня вдобавок несущими недоиспытанную сладость гражданских чувств).
Кушнер пишет, печатает много – и даже количественно имеет достаточно оснований отодвинуть в сторону свои стихи 60-х – начала 70-х годов как преходящий эпизод. Действительно, только теперь чувствуется, что мироотношение поэта определилось, затвердело надолго, если не навсегда. Какие-то возможности, какие-то порывания и обещания отсечены, и ревновать «нового» Кушнера к ним, несбывшимся, – зряшное дело. С ироническим уничижением паче гордости он констатирует (вставляя ситуацию пушкинского «Пророка» в колоритную восточно-мусульманскую оправу):
Имам в долгополом халате
Не встретится мне на коне,
Окликнув по имени кстати
И дух перестроив во мне.
Обойдясь без шоковой встречи с «имамом» ли, с «серафимом», не переменившийся духом, он словно после долгого странствия вернулся в «большой сад» своего «первого впечатления» (название книжки-дебюта). Он укрепился в мнении, что «мир прекрасно так устроен», освободив ныне эту формулу от идиллического призвука и совместив в ней положительный и отрицательный полюсы жизненного чуда:
Жить чудно, накладно, убыточно, дивно, печально…
Если сумма испытанных нами радостей и печалей дает к концу, к финалу, эмоциональный, так сказать, нуль (об этой итоговой, как он выразился, «нирване» писал еще К. Э. Циолковский в одной из своих ранних философских брошюр), то, видимо, смысл проживаемого человеком времени определяется не такой чередой счастья-злосчастья, а чем-то другим, ее превышающим. Однако сознательный пафос поэзии Кушнера состоит теперь в том, чтобы остаться «по эту сторону»[9] и не перекатиться мысленно за «таинственную черту», «над» и «вовне» вереницы отпущенных дней. В виде полушутливой гипотезы насчет «переселения душ» ему мерещится порой «другая жизнь» – как неиспользованный, запасной вариант прожитого: «И в следующий раз я жить хочу в России», «Не придется ли в будущей жизни родиться узбеком?», «В другой раз попрошусь жить в южной стороне / И теплой разживусь покладистой судьбою». Но такой «другой раз», ничем принципиально не отличающийся от первого раза, лишь подчеркивает решимость даже в несбыточных мечтах располагаться именно и только «по эту сторону». Поэт мог бы повторить вслед за Маяковским и, на свой лад, с не меньшей патетикой: «… вовсю, всей сердечной мерою, в жизнь сию, сей мир верил, верую».
А коли так, Кушнер окончательно становится певцом «жизни сей», ее живой спонтанности и непредопределимости; он обретает особое эстетическое воодушевление в мысли о том, что жизнь действует вслепую, без направляющей руки, методом проб и ошибок, но действует между тем творчески, созидательно.
Какое чудо, если есть
Тот, кто затеплил в нашу честь
Ночное множество созвездий!
А если все само собой
Устроилось, тогда, друг мой,
Еще чудесней!
Мы разве в проигрыше? Нет.
Тогда все тайна, все секрет.
А жизнь совсем невероятна!
Огонь, несущийся во тьму!
Еще прекрасней потому,
Что невозвратно.
Очень это напоминает – во многих отношениях эклектичную – философию Бергсона с ее «творческой эволюцией» и élan vital («жизненным порывом»). Тут и ответ Кушнера Фету: «… жаль того огня… что в ночь идет!» – нет, не жаль, ибо чем кратковременней он, тем прекрасней, а, вечный, был бы, верно, скучен. Ответ, как и подсказавшая его философия, разумеется, убедителен лишь для того, кто созерцает жизнь несколько отрешенно, в виде целокупного, торжественно-необъятного процесса, а не под личным углом зрения, не с места песчинки, заверченной в этом сплошном потоке, песчинки, что «хочет жить, а надо гибнуть».