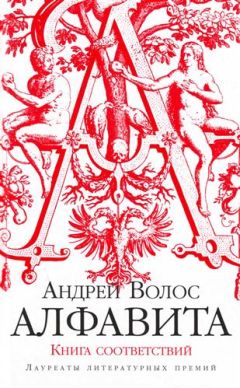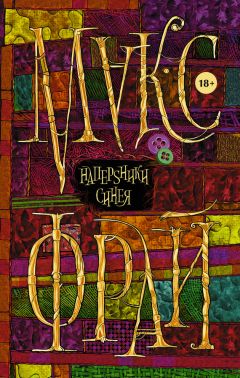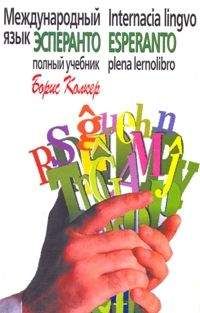Елена Бузько - «Сказание» инока Парфения в литературном контексте XIX века
В истории создания статьи Салтыкова о «Сказании» остается неизвестным: либо предложение стать автором рецензии Салтыков получил от Дружинина, либо сам выступил инициатором ее написания. Датируемая первой половиной 1857 г.[219], статья Салтыкова является своего рода теоретическим и публицистическим продолжением написанной им же годом ранее рецензии «Стихотворения Кольцова». Не случайно исследователи, изучавшие взгляды Салтыкова на общие вопросы литературы и искусства, почти всегда обращались не только к статье о стихотворениях Кольцова, но и к статье о книге Парфения[220].
Как и рецензия на «Сказание», статья о Кольцове писалась для журнала «Библиотека для чтения», но была запрещена цензурой, и позже Салтыков напечатал ее в «Русском вестнике». В статье о Кольцове автор впервые обращается к таким источникам писательского опыта, которые ранее не были для Салтыкова актуальны. Речь идет в первую очередь о мировосприятии народа, его быте и языке.
И рецензия «Стихотворения Кольцова», и выступление о книге Парфения являются отк ликом на ту глобальную полемику о народности, которая в предреформенной России имела особое звучание. Контекст полемики включает имена М. Н. Каткова и Б. Н. Чичерина, В. Г. Белинского и Н. Г. Чернышевского, А. В. Дружинина и П. В. Анненкова, Ю. Ф. Самарина и К. С. Аксакова, Ф. И. Буслаева и А. Н. Пыпина. Для нас статья М. Е. Салтыкова о Кольцове интересна не столько полемической направленностью, сколько важным определением назначения искусства, положением о личности художника, которые в дальнейшем получат развитие в статье о Парфении.
В рецензии на стихотворения Кольцова Салтыков впервые сформулировал те требования к искусству в его отношении к современности, которые сохранил на протяжении всей своей жизни. Выстроенные в полемическом ключе положения статьи о «художественности» направлены в первую очередь против эстетики П. В. Анненкова («О значении художественных произведений для общества»). Подчеркивая общественное служение искусства, Салтыков почти отождествляет труд художника с трудом ученого в том смысле, что и наука, и искусство равно должны служить обществу в вечном искании и утверждении добра. Салтыков четко определяет «лицо художника», предназначение которого «употреблять все усилия, всю энергию на водворение в мире добра и истины и искоренение зла» (5, 10). Статья о Кольцове позволяет говорить о том, что у Салтыкова сформировалось представление о писателе как об «исследователе» действительности, ее «объяснителе» и наставнике, который призван открывать «положительные и идеальные стороны жизни».
Поднимая вопрос о личности художника, Салтыков решительно отвергает образ «олимпийски» спокойного служителя муз. Художник не может в одинаковой степени симпатизировать всем явлениям жизни. Салтыков убежден в том, что в действительности можно и нужно найти «живую струну, которая представляла бы достойнейший предмет для таланта» (5, 12). Быть подлинным «представителем современной идеи» художник может лишь при условии «полного сочувствия к этой идее» (5, 13). Как видим, и Кольцов, и о. Парфений полностью соответствовали представлениям Салтыкова об истинном художнике: их произведения не только участвовали в общем «труде действительности и современности», но и имели последствием «внутренний переворот в совести» (5, 13) читателя, а не его «праздную забаву».
Задачей художника должно стать «монографическое» исследование народной жизни во всех ее «мельчайших изгибах». «Такова потребность времени, — утверждал Салтыков, — и идти против нее значило бы, несомненно, впасть в ложь и преувеличение» (5, 16). Искусство доступно художнику настолько, насколько «он живет в полном согласии с жизненным и духовным бытом русского народа». Кольцов был для Салтыкова художником, постигшим «мельчайшие подробности русского простонародного быта». Ту «разработку явлений русской жизни», которой Кольцов посвятил свое творчество, Салтыков считал важнейшим делом искусства, «точкой опоры» для современных писателей. Изучение русской народности «без предубеждений» должно стать обязательной составляющей «монографической деятельности» художника и ученого. Такое исследование, дающее возможность «изучить самих себя», «воспользоваться почти нетронутою сокровищницею народных сил», Салтыков находил в стихотворениях Кольцова. К такому «исследованию» с полным основанием можно отнести и «Сказание» Парфения.
Главным критерием подлинности искусства, которое призвано осмыслить исторический путь России, у Салтыкова выступает народность. Статья о «Сказании» начинается с тезиса о том, что настоящая литература должна быть «выражением народной жизни»: «…нельзя не иметь крепкой надежды, что молодая русская литература, став однажды на твердую стезю изучения русской народности, не собьется с нее и довершит начатое дело. Делается очевидным для всякого, что потребность познать самих себя, со всеми нашими недостатками и добродетелями, вошла уже в общее сознание: иначе нельзя объяснить ту жадность, с которою стремится публика прочитать всякое даже посредственное сочинение, в котором идет речь о России» (5, 33).
Значение книги Парфения писатель видел прежде всего в «разъяснении внутренней жизни русского народа», а именно оно, по убеждению Салтыкова, составляло главную задачу современной литературы. Не удивительно, что книга Парфения в неменьшей степени, чем стихотворения Кольцова, стала поводом для программного выступления Салтыкова.
В статье заявлена необходимость исследования национальной самобытности русской жизни: «Направление, принятое русскою литературой последних годов, заслуживает в высшей степени внимания. Русский человек, с его прошедшим и настоящим <…> сделался исключительным предметом изучения со стороны литераторов и ученых. Всякий стремится <…> уяснить для себя загадочный образ русского народа; всякий, с нетерпеливою поспешностью, спешит наворожить младенцу-великану блестящую и благоденственную будущность» (5, 33).
Образ русского народа — «младенца-великана» признается Салтыковым «загадочным» не потому, что представления писателя были «лишены социально-исторической ясности и перспективы»[221], а потому, что изучение народной жизни обрело в предреформенный период качественно новый подход. Именно об этом писал Салтыков в статье о Кольцове: «Мы, как будто тверже стоим на родной почве <…> сознаем себя уже не в гостях, а дома» (5, 32). Об этом же говорил К. Аксаков: «Самобытное мышление, сознание самих себя, сознание русского начала жизни, выразившееся в народности, в общественности, в истории, в языке и т. д., сознание, достигаемое изучением нашего прошедшего вообще и настоящего в простом народе, — вот наше дело; оно пробуждает в нас русского человека, так долго спавшего»[222]. Этот же смысл вкладывает Салтыков, когда в рецензии на «Сказание» пишет о мраке в различных проявлениях русской жизни, который «начинает мало-помалу рассеиваться, ибо, — поясняет автор, — мы в течение немногих последних лет приобрели уже достаточное количество материалов для знакомства с характером и внутренним бытом русского народа» (5, 33).
В статье о книге Парфения Салтыков возвращается к разбору тех представлений о народной жизни, которые бытовали в 1850-е годы и которые он ранее, в рецензии на стихотворения Кольцова, подверг критике. Писатель обличал как казенно-патриотическое понимание народности, так и «требования исключительно национального направления в искусстве». Для Салтыкова была абсолютно неприемлема идеализация народной жизни, которую он находил в статье Т. Филиппова о комедии Островского «Не так живи, как хочется». Но и воззрения, близкие Вал. Майкову, согласно которым искусство не должно носить на себе ярко выраженного национального отпечатка, оказываются для Салтыкова чуждыми. В этой связи показательно его замечание о Кольцове, который как только «удалялся от русской жизни», как только «хотел стать на точку зрения общечеловеческую», по мнению автора, «падал и утрачивал ясность своего взгляда» (5, 29).
Салтыков предлагает читателю свое отношение к различным воззрениям на русскую народность, свой взгляд на дальнейшее развитие России. Из всего многообразия воззрений, распространенных в 1850-е годы, в рецензии на «Сказание» писатель выделяет и подвергает критике три главные категории: «воззрения сонные», «воззрения идиллические» и «воззрения раздражительные или жёлчные». Представители первого смотрят на народ как на «театральную толпу, кордебалет», который в известных случаях является на сцену «с веселым видом и простосердечием несказанным, чтобы прокричать <…> фразу и потом удалиться в порядке со сцены» (5, 477).
Воззрение «идиллическое» в глазах Салтыкова «покрыто самым мрачным колоритом», потому как есть пропаганда какого-то общинного аскетизма, и в статье именуется также «аскетическим» воззрением.