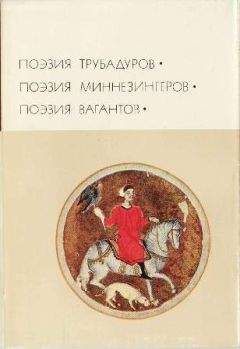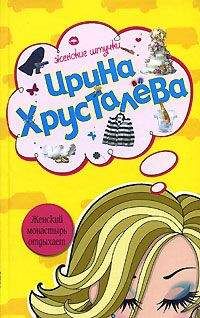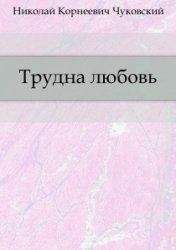Лада Панова - Мнимое сиротство. Хлебников и Хармс в контексте русского и европейского модернизма
2.1. Авангардная интертекстуальность при солидарном чтении
Здесь будут сформулированы те заблуждения относительно авангардной интертекстуальности, которыми руководствуются адепты солидарного чтения.
2.1.1. Допускаемые и недопустимые литературные влияния. Интертекстуальные процедуры, хотя и с трудом, все-таки в авангардоведение проникают, но область их применения при этом сильно ограничивается. Они, как правило, распространяются на орнаментальные элементы текста, а не на его общий дизайн, ибо в противном случае образ писателя-гения, сказавшего в литературе абсолютно «Новое Первое Неожиданное» слово, попал бы под удар.
Переходя к персоналиям, следует отметить, что в самое последнее время Пушкин оказался в числе «разрешенных» предшественников авангарда. Но, скажем, Кузмину в этой роли отказывают – на основании все той же «Пощечины общественному вкусу», из-за которой в свое время страдал и Пушкин[64]. В ответ на выявленные мной хлебниковские заимствования у Кузмина – как можно будет видеть из главы I, обширные, – мне пришлось услышать следующую реакцию одного коллеги: не мог поэт третьего ряда повлиять на поэта первого. Оставляя в стороне как проблематичность рейтинга талантов, так и неучет открытого Тыняновым механизма заимствований, согласно которому писатель любого ряда вполне мог заимствовать из произведений какого угодно качества, остановлюсь на глубинном смысле этого запретительного жеста.
Во многих отношениях Кузмин был тем модернистом, который взаимодействовал с Хлебниковым и Хармсом, причем не только на правах писателя, протежировавшего «младшим» – так сказать, литераторам следующего поколения[65]. В перспективе истории русского модернизма Кузмин выступил потенциальным авангардистом, своего рода Пикассо русской литературы, поскольку от классического стиля (а он критиками и литературоведами возводился непосредственно к Пушкину) перешел к герметичным построениям и ассоциативной поэтике, в разработке которых учел опыт Хлебникова и Маяковского. Соответственно, чтобы восстановить баланс сил и влияний, имевший место в модернизме, Кузмин будет рассматриваться здесь как наставник Хлебникова и Хармса и одновременно как особый представитель авангардизма в условиях советской «культуры 1» с ее модой на экспериментаторство.
Если о Хлебникове в каких-то отношениях можно говорить как о явлении новаторском и исключительным, то Хармс, принадлежавший ко второму поколению первого авангарда, именно по этой причине никак не мог быть ни первым, ни уникальным. Магистральное хармсоведение одновременно и признает «вторичность» своего автора, допуская в свои анализы авангардные прототипы его произведений, и не признает, игнорируя вопрос, поставленный Лидией Гинзбург в 1932 году: а что если Хармс – это второй Хлебников? Что же касается исследовательских усилий, направленных на поиск неавангардных интертекстов у Хармса, то они, к сожалению, минимальны. Например, «Лапу» принято рассматривать в контексте Хлебникова, но почему-то не в контексте Кузмина или Гоголя, повлиявших на нее отнюдь не меньше.
2.1.2. Запрет на глубокий интертекстуальный анализ. В качестве интертекстуальных источников Хлебникова и Хармса признаются, хотя и робко, символисты; для Хлебникова также найдены соответствия в «Так говорил Заратустра» Ницше, а для Хармса – прецеденты в традициях авангарда. Тем не менее анализ этих и некоторых других влияний носит принципиально поверхностный характер. Он, как правило, нацелен на отдельные орнаментальные эффекты текста, но не на его жизнетворческую сущность, структурную доминанту или приемы.
Вслед за Н. Я. Мандельштам, определившей футуризм как скрещение символистского и ницшеанского наследий[66], в этой книге предпринимается тщательная проверка выбранных для анализа произведений Хлебникова («Ка», «Зангези», «Чисел» и некоторых других) и Хармса («Лапы»), а также нумерологического проекта Хлебникова, на интертекстуальную связь с символизмом, ницшеанством и русской классикой XIX века. В итоге они оказываются детьми своей эпохи, а никак не сиротами.
Глубинный интертекстуальный анализ источников неизбежно разрушает ореол абсолютной самобытности автора (на которую претендуют авангардисты), но отнюдь не сводит его достоинства на «нет». Так, репутации Пушкина, Мандельштама и Бориса Пастернака, основательно обследованных с интертекстуальной точки зрения, это нисколько не повредило. Скорее наоборот, это их украсило. Дело в том, что интертекстуальный анализ выявляет технику работы писателей с их источниками, которая сама нередко также оказывается высокохудожественным явлением. Соответственно, никакого конфликта между интертекстуальностью и гениальностью в принципе нет. Можно надеяться, что как только это будет понято любителями авангарда и особенно авангардоведами, интертекстуальный фон авангарда получит свою порцию внимания.
2.1.3. Научным интертекстам – зеленый свет, литературным – красный. Если одно и то же авангардное явление можно объяснить через постановку как в научный контекст, так и в литературный, то солидарное авангардоведение всегда выберет научный. Тем самым оно ретранслирует претензии Хлебникова и Хармса на то, что их значение выходит далеко за рамки литературы, должно оцениваться по меркам мировой культуры и научной мысли, а не сводиться к мелочам писательской практики. Литературный генезис творчества двух авангардистов, будь то словесного, математического или лингвистического, при этом остается в тени. В настоящей работе дилемма «научный контекст vs контекст литературный» разрешается иначе. Если идеи Хлебникова или Хармса можно вывести из литературы – той области, где они были профессионалами, – то начинать нужно с нее, а лишь потом переходить к научным материям.
Бытующее в солидарном авангардоведении заблуждение состоит в том, что Хлебников и Хармс основательно продвинули вперед математику и логику, а Хлебников был к тому же прирожденным лингвистом. Приравнивание творчества авангардистов к научным практикам – реально имевшим место в их эпоху, а если нужных корреляций не находится, то и возникших после их смерти, и, значит, пророчески ими предсказанных, – строится на том, что степень их осведомленности о научных достижениях своего времени сильно преувеличивается.
Показательным случаем является египетский пласт «Ка» и «Лапы» в свете солидарного авангардоведения. Оба произведения воспринимаются как показатели погруженности Хлебникова и Хармса в вопросы научной египтологии и как уникальные прорывы в области познаний о древней и новой цивилизации. В солидарном авангардоведении принято не замечать принадлежности «Ка» и «Лапы» к литературной традиции: в них видят некое откровение – разговор на равных с фараонами и египтологами.
То, что «Ка» и «Лапа» переросли рамки литературы, легко оспорить. Дело в том, что на эпоху модернизма пришелся расцвет литературной египтомании. Писать о древнем Египте, а также придумывать для него нетривиальные трактовки и проецировать египетский мир на себя, как на избранного, – словом, делать все то, что Хлебников и Хармс позволили себе в «Ка» и «Лапе», повелось задолго до них. Таким образом, оба произведения – образцы не художественно препарированной египтологии, а египтомании[67].
Вообще, по степени своей осведомленности о Древнем Египте Хлебников и Хармс находились среди «отстающих». В рейтинге модернистов, писавших на египетские темы, они могли бы претендовать лишь на две самые низкие позиции. Начну с высшей позиции. Ее по праву занимают Дмитрий Мережковский и Василий Розанов. В Египте они не побывали и не овладели древнеегипетским языком (как, впрочем, и подавляющее большинство русских египтоманов); в то же время эта цивилизация раскрылась им через научные и оккультные труды. Мережковский и Розанов смело брались за квазиегиптологические трактаты, в которых имели дерзость давать наставления профессиональным египтологам. Мережковский вдобавок сочинил два романа из эпохи Эхнатона. На следующей строчке рейтинга располагаются Кузмин, Андрей Белый, Николай Гумилев, посетившие Египет, специально изучавшие его историю и литературу и оставившие после себя самобытные образы этой цивилизации. Хлебников, знавший лишь жизнеописание Эхнатона (если судить по «Ка») и отдельные даты из истории Древнего Египта (если судить по его вычислениям ритма войн) шел бы после них с большим отставанием, а Хармсу, обращавшемуся к отдельным египетским образам спорадически и при этом лишавшему их всякой египетской специфики в «Лапе» и некоторых других текстах, досталось бы последнее место.
Говоря о восприимчивости Хлебникова и Хармса к науке, логике и философии, стоит учитывать уровень полученного ими образования. Оно было разночинско-демократическим (согласно В. Ф. Маркову, именно так описавшему первое поколение авангардистов), и если и позволяло им знакомиться со старыми и новыми научными достижениями, то в основном в масштабе научно-популярной литературы. Что же касается изучения первоисточников, то для него требуются предварительная подготовка, знание иностранных языков и профессиональные навыки такого изучения, иными словами, университетская образованность и начитанность на уровне Иванова, Брюсова и Мережковского – или, например, Кузмина, систематически занимавшегося самообразованием. К этому авторы-авангардисты (за исключением Бенедикта Лившица), однако, не стремились.