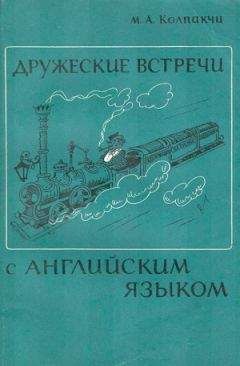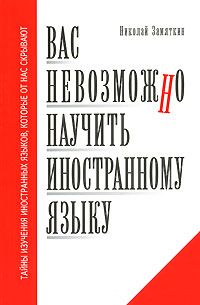Ирина Роднянская - Движение литературы. Том II
Отсюда же проблематичное противостояние громадных вопросов о жизни, смерти, одиночестве и общении, свободе и любви, движении истории, судьбах отечества – вопросов, для постановки которых созван поистине «великий совет», потревожены тени Пушкина, Достоевского, Тютчева, Боратынского, Толстого, – и сугубо личных, живо-мучительных применительно к себе, к частному своему случаю попыток ответить на эти вопросы без итоговой звонкости и завершающего аккорда. В одном из стихотворений Лев Толстой с его «арзамасским ужасом» посмертного исчезновения оказывается просто «проезжим» (хотя и «покрепче нас») постояльцем провинциальных номеров, которому, как и «нам» (мне, «командировочному» поэту, и тебе, читателю), случалось «очнуться на клейменой простыне гостиничной, со швом посередине». С тем же ограниченным успехом – для разгадки собственной жизненной задачи – можно примериться к приятелям, соседям, к трудностям их жизни: «Я к друзьям загляну – и у них, и у них / те же трещины, та же борьба. / Хорошо иногда подсмотреть у других / то, что общая дарит судьба».
Отсюда наконец двойное пространство стихов Кушнера: большой обзор под легкооблачным или завихренным небом – и малая деталь интерьера, почти насильно приближенная к глазу. Первоначально эти две перспективы не были расщеплены. Пролеты ленинградских улиц, сады и багряный кирпич окраин, переливы Невы на солнце, просторное небо и облако на нем, ажур листвы, тихое падение снега, воздушный очерк ветвей и оград, влажное и вольное дыхание жизни («сырая эта красота»), свет в окне как знак человеческого присутствия и душевности, «скатерть, радость, благодать» – таков был поэтический ландшафт первых книжек поэта.
Затем две точки обзора мучительно и противоречиво наложились друг на друга, обнаружив несовместимость, разрыв: взгляд из купе поезда за окно на головокружительный бег туч, далей, станционных огней – и одновременно на окно, «с этой стороны / Стекла, где ссохлась муха»; безмерность и запертость, неостановимое движение «на мировом ветру» – и прикованность к месту.
В «Письме» двоение жизненных обзоров, их непостижимое перекрещивание, этот везде настигающий стык большого и малого, исторического и личного пространства-времени становится для Кушнера источником драматического ощущения жизни:
Как будто мы в бинокль взглянули
С увеличеньем многократным
И вдруг его перевернули
С пренебреженьем непонятным.
Какой роман такое чтенье
Способен выдержать – не знаю, —
Такой фавор и отдаленье?
Я как про Миниха читаю.
С этой поры очертания «большого» пространства, его география, его меты и мемориалы смещаются в причудливых маршрутах ночного «заблудившегося трамвая», все чаще размываются снежной пеленой, усугубляющей неизмеримость расстояний, сливаются в «немыслимом круженье по равнине».
А в малом житейском купе, в заслоняющих даль крупных планах, как пожизненный, вплоть до Аида, страж, – «диван, потрепанный на вид», его «расставивший капкан нитяной узор»: «… как боюсь я вот таких диванов, скрытых тех пружин».
Меняется самый способ ориентировки, передвижения и общения: от летней прогулки среди достопримечательностей «большого сада» (книжка «Ночной дозор») к бегу поезда по безответному простору (в «Приметах») и к письму. «Письмо» – символ кратчайшего, сквозь все дали, общения, но вместе с тем – подающей о себе весть затерянности: ведь отправитель и получатель летучей почты не покидает своего очерченного места. Мир его переписки огромен: и с «читателем-другом», и с благородными умами русского XIX столетия, которые в обход законов естества шлют почтовое одобрение из посмертного «ослабленного существованья» («Конверт какой-то странный, странный…»); но все письма разложены и перетасованы на «тесном столе».
Эта затерянность среди равнин отечественной географии и в валах национальной истории получает у Кушнера честное выражение. У поэта перед глазами огромность судеб страны под необозримым куполом космоса:
Мигают звезды на приколе.
Россия, опытное поле,
Мерцает в смутном ореоле
Огней, бегущих в стороне…
И он избегает понятного соблазна вписать в этот общий, с бескомпромиссной широтой захваченный жизненный план условную участь «поэта вообще»: «… прямой поступок – вот реальность». У него трезвый и точный глазомер, острое чувство масштаба, требующее мужества:
Ночь за окном синеет смутно.
Должно быть, время наше трудно.
Но думать было бы абсурдно,
Что были легче времена.
А хоть и были, мы – не дети,
И мы рассчитаны – на эти,
Не мы, тогда никто на свете
Их не снесет…
Любовная тоска и память о смертном часе, сквозящие во многих строках и еще больше в любой недомолвке «Примет» и «Письма», а вскоре зазвучавшие уже с открытостью «прямой речи»,[5] – это все же не фокус, а фон внимания, проявители и усилители поэтической мысли, поставленной перед лицом крайностей. Внутренняя же мысль, многопредметно-разветвленная, непрестанно возвращается к тревожному вопросу – о чем? «Боюсь сказать: о смысле жизни», о ее путеводных вехах и связях. И утекающий скупо отмеренный век с желанным и нежеланным трудом, «неудавшейся любовью», пересудами друзей, семейными заботами, самолюбивыми обидами, и ответственное участие в общем ходе бытия и культуры, в подъятии большой исторической ноши – эти два жизненных «отсчета» где-то должны совместиться, дав истинное «прибавление к объему». Вот предмет поисков.
Иногда смысловая связь только мелькает и меркнет, как шифр, к которому еще нет ключа, как смутное касание исторического к обыденности личной драмы.
Однако поэту ведомо наперед, что всеобъясняющая «точка истины», точка пересечения «частной» жизни, природно-космического бытия и исторически значимого деяния существует, и он, грустя, что не находит ее, и радуясь, что она достоверно есть, созывает для совместного раздумья синклит своих «корреспондентов» и «адресатов».
Эти вечные счеты, расчеты, долги
И подсчеты, подсчеты.
Испещренные цифрами черновики,
Наши гении, мученики, должники.
Рифмы, рядом – расходы.
То ли в карты играл? То ли в долг занимал?
Было пасмурно, осень.
Век железный – зато и презренный металл.
Или рощу сажал и считал, и считал,
Сколько высадил елей и сосен?
Эта жизнь так нелепо и быстро течет!
Покажи, от чего начинать нам отсчет,
Чтоб не сделать ошибки?
Стих от прозы не бегает, наоборот!
Свет осенний и зыбкий.
………………………………………
Снова дикая кошка бежит по пятам,
Приближается время платить по счетам,
Все страшней ее взгляды:
Забегает вперед, прижимает к кустам, —
И не будет пощады.
Все равно эта жизнь и в конце хороша,
И в долгах, и в слезах, потому что свежа!
И послушная рифма,
Выбегая на зов, и легка, как душа,
И точна, точно цифра!
Стихотворение – ключевое. Как и везде, Кушнер адресуется к «нашим гениям» не столько за ответами, сколько за примерами. Он и цитирует всегда с любовно-приближающей иронией, как бы воскрешая, извлекая из-под «культурного слоя» исходную житейскую ситуацию, примеривая к ней свою («Уж не роняет больше, обронил продрогший лес убор свой знаменитый…», «так Баратынский с его пироскафом…» – ну а здесь точно так же процитирован блоковский, в свою очередь от Боратынского идущий, «железный век»). Вопрос, как свести концы с концами, встает и перед «нашими гениями», и перед «нами», и в элементарном (не отмахнуться!), и в духовном значении: хозяйственный, а то и карточный долг – и нравственно-творческая душевная отдача («… то, что мы должны вернуть, умирая, в лучшем виде»). «Время платить по счетам» – двойное, частное и историческое время, омонимически совмещенное. А просьба: «Покажи, от чего начинать нам отсчет», – обращена не только к наследству «наших гениев», но и к тому постоянно присутствующему в стихах Кушнера лицу, к тому обладателю «круглых сотен и тысяч», которого поэт сделал, так сказать, своим космическим двойником и высшим сотоварищем в радостях, неурядицах и бедах. Этот собеседник страдает («… как вы, как вы, как вы!»), сострадает («… сам в пылу внушенья, как сердобольный врач, нуждаясь в утешенье»), даже винится, но вместо ответа гонит по ветру медные кроны под необъятным небом своего «выстуженного дома»: «… каких нам еще доказательств его роковых замешательств?»
Итак, ответа не слышится, ответ не добыт, но есть манящий, обнадеживающий намек на самую возможность ответа – «послушная рифма», чудо сложения стихов как знак того, что все пласты жизни «в конце», в конечном итоге сопрягутся, срифмуются (с живой «неправильностью» Кушнер, ликующе провозглашая точность рифмы, на самом деле дает ассонанс: «рифма – цифра»). Поэту представляется, что непредвиденный рифменный лад, возникающий из нескладицы текущего дня, – не эстетическая иллюзия, а весть о скрытом единстве и скрытой устроенности жизни, весть, которую он, «уничтожая расстоянье», обязан как бы и не от себя передать другим.