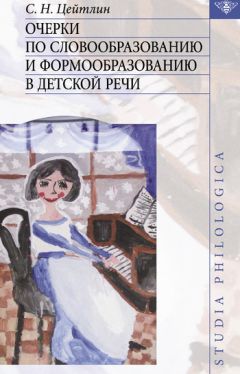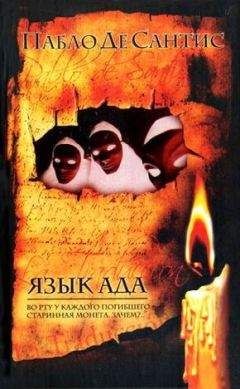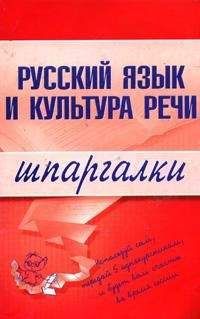Виктор Шкловский - Заметки о прозе Пушкина
Эпиграф к главе IX:
Сладко было спознаваться
Мне, прекрасная, с тобой;
Грустно, грустно расставаться,
Грустно, будто бы с душой.
Херасков.
Это взято из песенки, первый куплет которой звучит так:
Вид прелестный, милы взоры!
Вы скрываетесь от глаз;
Реки и леса и горы
Разлучат надолго нас.
Это стихотворение Херасков не помещал в собрание своих сочинений, но, по словам И. Н. Розанова, из сборника которого («Песни русских поэтов», М. – Л., 1936) я беру текст песни, она была популярна в песенниках.
Подражания этой песне записывались фольклористами в XIX веке.
Теперь перейдем снова к эпиграфам, которые характеризуют Гринева.
Эпиграфы, относящиеся к дворянской половине героев, – другого характера: они взяты из Княжнина, Фонвизина.
Вот их пример:
– Ин изволь и стань же в позитуру.
Посмотришь, проколю как я твою фигуру.
Эпиграф этот взят из комедии Княжнина «Чудаки» – явление 12-е (цитирую по 41-му тому издания «Российский Феатр». СПБ, 1791, стр. 112).
Пролаз, пугая своего соперника, говорит:
Ин изволь и стань же в позитуру.
Увидишь, проколю как я твою фигуру!
Да от чего, скажи, ты кажешься толстей?
За час ты тоне был.
Работа Пушкина с эпиграфами, как мы видим, чрезвычайно тонка и смысловым образом определяет произведение.
Каждый герой имеет свою особую систему «эпиграфического окружения».
Для анализа Пушкина, как это видно хотя бы при исследовании «Евгения Онегина», нужно исследовать всю совокупность черт художественной формы произведения.
Произведение может быть определено только тогда, когда мы анализируем и эпиграфы, и примечания, и даже пропущенные строфы.
Пушкин часто строил стихи не с одним прямым значением. Чаще всего второй смысл стихотворения давался в вещах, политически опасных.
Реже второй план эротичен[7].
Положительное изображение Пугачевщины дано Пушкиным не только в эпиграфах.
Эпиграфы должны были только давать читателю определенный ключ к пониманию.
Вот как описывает Пушкин военный совет Пугачева:
«Я молча сел на краю стола. Сосед мой, молодой казак, стройный и красивый, налил мне стакан простого вина, до которого я не коснулся. С любопытством стал я рассматривать сборище. Пугачев на первом месте сидел, облокотясь на стол и подпирая черную бороду своим широким кулаком. Черты лица его, правильные и довольно приятные, не изъявляли ничего свирепого. Он часто обращался к человеку лет пятидесяти, называя его то графом, то Тимофеичем, а иногда величая его дядюшкою. Все обходились между собою как товарищи и не оказывали никакого особенного предпочтения своему предводителю. Разговор шел об утреннем приступе, об успехе возмущения и о будущих действиях. Каждый хвастал, предлагал свои мнения и свободно оспоривал Пугачева. И на сем-то странном военном совете решено было итти к Оренбургу: движение дерзкое, и которое чуть было не увенчалось бедственным успехом!» (Пушкин, т. IV, стр. 377–378).
К этому месту нужно, в качестве примечания, привести не вошедшую в текст «Истории Пугачевского бунта» заметку Пушкина (эти заметки были представлены Пушкиным Николаю I как материал, который он не решился напечатать):
«Разбирая меры, предпринятые Пугачевым и его сообщниками, должно признаться, что мятежники избрали средства самые надежные и действительные к достижению своей цели. Правительство с своей стороны действовало слабо, медленно, ошибочно» (Пушкин, т. V, стр. 454).
Любопытно отметить, что в «Капитанской дочке», как и в «Дубровском», дана одинаковая деталь разбойничьего лагеря. В «Дубровском» караульщик кончил свою работу… «сел на пушку верхом и запел во всё горло меланхолическую старую песню:
Не шуми, мати зеленая дубровушка,
Не мешай мне молодцу думу думати».
В «Капитанской дочке» Пугачев говорит:
«Затянем-ка на сон грядущий мою любимую песенку. Чумаков! начинай!» – Сосед мой затянул тонким голоском заунывную бурлацкую песню, и все подхватили хором:
Не шуми, мати зеленая дубровушка,
Не мешай мне доброму молодцу думу думати…»
П. Гринев дает оценку этой сцены, несколько выходя из своего обычного словаря.
«Невозможно рассказать, какое действие произвела на меня эта простонародная песня про виселицу, распеваемая людьми, обреченными виселице. Их грозные лица, стройные голоса, унылое выражений, которое придавали они словам и без того выразительным, – всё потрясало меня каким-то пиитическим ужасом» (Пушкин, т. IV, стр. 378).
Эта сцена сменяется изображением самого Пугачева:
«Мы остались глаз на глаз.
Несколько минут продолжалось обоюдное наше молчание. Пугачев смотрел на меня пристально, изредка прищуривая левый глаз с удивительным выражением плутовства и насмешливости. Наконец он засмеялся, и с такою непритворной веселостию, что и я, глядя на него, стал смеяться, сам не зная чему» (Пушкин, IV, стр. 379).
Никакой иронии или жалости к Пугачеву Пушкин в своей повести не дает, потому что Пугачев его весел и насмешлив.
Пушкин показывает Пугачева в окружении народной песни, которую сам так любил.
Он переносит на него царственные атрибуты старой поэзии.
В «Истории Пугачева» он сближает Емельяна со Степаном Разиным, которого называл «единственным поэтическим лицом русской истории» (письмо Л. С. Пушкину, 1824 г., конец октября, Переписка, т. I, стр. 141).
Другое сближение Пугачевщины с Разинщиной было дано Пушкиным в его «Истории» и вызвало возражение Николая.
В главе V Пушкин дал следующее место:
«Жены и матери стояли у берегов стараясь узнать между ими своих мужей и сыновей. В Озерной старая казачка (Разина) [целый] каждый день бродила над Яиком, клюкою пригребая к берегу плывущие трупы и приговаривая: не ты ли мое детище? не ты ли мой Степушка? не твои ли черны кудри свежа вода моет? и видя лицо незнакомое тихо отталкивала труп» («Литературное наследство», пушкинский номер, стр. 528).
Пушкин, конечно, знал, для чего он это пишет и почему имя и фамилия казака взяты разинские.
Николай тоже знал, что делает, когда на полях написал: «Лучше выпустить, ибо связи нет с делом».
В другом месте Пушкин сближает уже три имени: Разин, Пугачев и Петр I. 6 октября 1834 г. Пушкин записывает:
«Когда Пугачев сидел на Меновом дворе, праздные москвичи, между обедом и вечером, заезжали на него поглядеть, подхватить какое-нибудь от него слово, которое спешили потом развозить по городу. Однажды сидел он задумавшись. Посетители молча окружали его, ожидая, чтоб он заговорил. Пугачев сказал: «Известно по преданиям, что Петр I, во время персидского похода, услыша, что могила Стеньки Разина находилась невдалеке, нарочно к ней поехал и велел разметать курган, дабы увидеть хоть кости славного бунтовщика – вот какова наша слава! Это сказка – Разин никогда не был погребен в краях, где он свирепствовал, он был четвертован в Москва. Тем не менее сказка замечательна, особенно в устах Пугачева» (Пушкин, Временник Пушкинской комиссии, 2, стр. 435).
Полной картины Пугачевщины в «Капитанской дочке» Пушкин дать не мог. Не показал он маневренности боя Пугачева, храбрости башкир, про которых сам в «Истории Пугачевского бунта» писал, что в одном бою они погибли «Все, кроме одного, насильно пощаженного» (Пушкин, V, стр. 350).
Но Пушкин сумел дать характеры пугачевцев.
У Пугачева одним из военачальников был горнорабочий Хлопуша, клейменный, с вырезанными ноздрями.
Этот Хлопуша в ответ на реплику Пугачева, что он прикажет повесить Швабрина, возражает так:
«Прикажи слово молвить, – сказал Хлопуша хриплым голосом. – Ты поторопился назначить Швабрина в коменданты крепости, а теперь торопишься его вешать. Ты уж оскорбил казаков, посадив дворянина им в начальники; не пугай же дворян, казня их по первому наговору» (Пушкин, т. IV, стр. 432).
Пушкин в «общих замечаниях» говорит:
«Одно дворянство было открытым образом на стороне правительства. Пугачев и его сообщники хотели сперва и дворян склонить на свою сторону, но выгоды их были слишком противуположны. (NB. Класс приказных и чиновников был еще малочислен, и решительно принадлежал простому народу. То же можно сказать и о выслужившихся из солдат офицерах. Множество из сих последних были в шайках Пугачева. Шванвич один был из хороших дворян)» (Пушкин, т. V, стр. 453).
Наш анализ планов Пушкина и есть анализ изменений повести. Повесть взяла в качестве основного конфликта не историю оппозиционного дворянина, а картину народного движения.
Линия Гринева в повести разрешена как второстепенная.
Слить в одном узле дворянскую оппозицию и народное восстание оказалось невозможным, и Пушкин отказался от этой мысли, – он перерос этот конфликт.