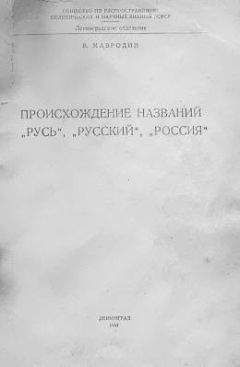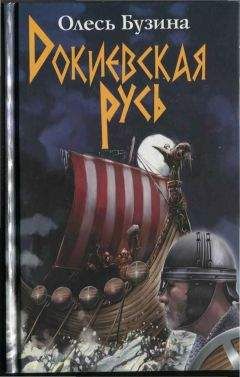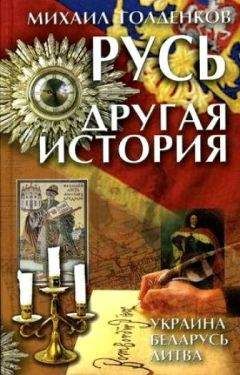Самарий Великовский - В скрещенье лучей. Очерки французской поэзии XIX–XX веков
Счастливым исключением среди своих попросту скучных собратьев был тогда разве что Андре Шенье с его легким изяществом и догадками о безрассудстве сердечных влечений, не внемлющих голосу трезвой житейской мудрости. Однако слава Шенье основана на рукописях, увидевших свет лишь в 1819 г., четверть века спустя после его гибели на гильотине. Во Франции они были встречены как предзнаменование перемен в культуре, по мере того как она проникалась истиной, носившейся теперь в воздухе и получившей в соседней Германии отточенность афоризма в устах мудрого Гёте: «…сущее не делится на разум без остатка».
Перепроверка ценностей
Медленный и трудный поворот умов к «неделимому ос татку», упрямо ускользавшему от их наилогичнейших ухищрений, – к озадачивающе вольной, безбрежно изобильной стихии живой жизни – был далеко не случаен. По-своему он был задан, внушен превратностями самой истории на пере вале от XVIII к XIX веку. Недавняя революция 1789–1794 гг. обрушила устои старого порядка во Франции, все потуги снова завести нечто похожее, вроде монархии-пережитка, восстановленной было вслед за разгромом Наполеона, оказа лись тщетны. Однако ни самый ход этой ломки, ни тем паче ее исход вопиюще не совпадали с рассудительными предначертаниями мыслителей Просвещения. Вроде бы перестроенную снизу доверху Францию ловко прибирал к рукам дело витый торгаш, напористо продвигавший своих политиков к кормилу власти, повсюду насаждавший нравы купли-продажи; страна и отдаленно не напоминала то царство свободы, равенства, братства, какое возвещали именем справедливого здравомыслия вчерашние властители ее дум, а вскоре оплати ли кровью, своей и чужой, их ученики-революционеры. Действительный исторический поток выглядел на поверку куда своенравнее, обманчивее благих ожиданий и самых тщательных выкладок философского разума. Перед отрезвляющим уроком событий одни, вопреки тревожным недоумениям смотревшие с надеждой вперед, продолжали питать чаяния когда-нибудь в будущем все-таки воплотить заветы Просвещения, пусть и с коренными поправками на случившееся; другие, тоскуя о временах стародавних, проклинали вольнодумство XVIII века как злокозненный морок, ввергнувший Францию и сопредельные земли в пучину потрясений. Но в обоих случаях оспариванию всерьез, решительному и обдуманному, подлежала избыточная рассудочность прежних духовно-мыслительных навыков, былого уклада культуры.
От добровольного подчинения ему французская поэзия пострадала особенно ощутимо. И с тех пор крайне озабочена тем, чтобы вытравить из своей плоти и крови привычки головного риторства – «сломать шею красноречию», по лозунгу Верлена, вобравшему ее заветные помыслы. Почти вся ее история в XIX–XX вв. может быть вкратце представлена как чреда усугублявшихся раз от разу попыток перейти с понятийно-логических источников питания на другие, вне-рассудочные, будь то упоенная собой фантазия, россыпь сырых впечатлений на лету, смутное томление сердца, непроизвольная встреча далеких друг от друга предметов, дум, чувств, зыбкие грезы или вспышки душевных озарений. Но, коль скоро для укрощения умозрительных наклонностей «острого галльского смысла» (А. Блок) понадобился изрядный срок и неустанно возобновлявшаяся их корчевка, очевидно и то, что рассудочные пристрастия цепко и долго удерживались в «наследственном коде» национальной поэтической культуры Франции. И потому всегда, на каждом из пройденных ею отрезков и в каждой своей клеточке, она являла собой поле напряженного, как нигде, противоборства-взаимопереплетения разнозаряженных начал – обдуманной выстроенности и раскованного наития, афористической логики и каламбурного парадокса, прихотливой игры вымысла и четкой работы интеллекта, изобретательства и гладкописи.
Первые робкие проблески этой живой двойственности в окостеневшем под неусыпным попечением рассудка французском стихотворчестве как раз и были одним из преломлений той перепроверки ценностей, к какой понуждал вдумчивые умы на заре XIX в. своевольный исторический водоворот. Отныне мысль, обжегшись на своей тяге к отвлеченностям, училась не спешить всеуравнивающе подгонять под них пестроту переменчивой мозаичной жизни, а взращивала в себе умение предметно охватить каждый из кусочков этой чересполосицы.
Среди отличительных свойств утверждавшегося мало-помалу мировосприятия ключевое место занимала присталь ная чуткость к особенному, из ряда вон выходящему, неповторимому в любой личности, равно как и в любом народе. Не менее бережно пестовали теперь дар вглядываться в ярко цветную вещественную плоть сущего, заходила ли речь о чу жеземных краях или близлежащих окрестностях, о седой старине или днях текущих. Само по себе подчеркнутое различение между вчера и сегодня обретало первостепенную значимость: вселенная, человечество были поняты именно тогда как движение из прошлого в будущее, как история, и вдобавок одухотворялись, мифологизировались – их рисовали себе поприщем хитроумных судеб, иногда благожелательных, чаще коварных. Недаром Франция тех лет сравнительно бедна философами, зато щедра на историков. Во всем, что приверженцы круто менявшегося жизневиденья созерцают, постигают, переживают – в лицах, вещах, происшествиях, собственных треволнениях, – охотнее всего распознается и выискивается своеобычность отдельного, а то и причудливость незаурядного. Настроенное на такую волну сознание изумлено даже тогда, когда опечалено, удручено своими открытиями.
Здесь, в исходной предрасположенности к непривычному, и кроются причины вспышки лиризма обновленного – романтического, как именуют его в противовес прежнему, классицистическому. Достояние отнюдь не одной лишь лирики, а гораздо шире и глубже – мышления эпохи, он с 20‑х годов XIX в. стремительно проникает в сочинения всех родов и видов – повествовательные, мемуарные, предназначенные для театра, философско-эссеистические, политические, историографические, вплоть до естественнонаучных.
Но если там он многое изменил, то поэзию, захиревшую было от засилья рассудочности, – воскресил.
Зачинатели
Марселина Деборд-Вальмор, Альфонс де Ламартин, Альфред де Виньи, Шарль Сент-Бёв
Самой ранней ласточкой этой оттепели – из тех, правда, ласточек, что сами весны не делают, однако близость ее возвещают, – по праву строгой хронологии следует признать скромную книжечку «Мария, элегии и романсы» Марселины Деборд-Вальмор (1786–1859), вышедшую в том же 1819 г., что и посмертные сочинения Андре Шенье.
До сих пор действительное историко-литературное значение этого и последовавших за ним сборников стихов Деборд-Вальмор – таких, как «Рыдания» (1833), «Бедные цветы» (1839), «Букеты и молитвы» (1843), – осознается далеко не полностью, несмотря на восторженные похвалы, какими удостаивали «романтическую сестру Марселину» именитые собратья от Гюго и Сент-Бёва до Бодлера и Верлена. Мешает, судя по всему, какая-то витающая над страницами ее книг застенчивость самочувствия в культуре: с детства вынужденная вести кочевую жизнь и не сумевшая получить сколько-нибудь серьезного образования, она словно бы стеснялась своего сугубо домашнего – хотя как раз первородной доморощенностью и драгоценного – кругозора.
В молодости певица, выступавшая и в Париже, и по провинциальным городам, но покинувшая подмостки после замужества, Марселина Деборд-Вальмор потянулась к перу и бумаге как к отдушине в своем трудном семейном житье, заполненном хлопотами по хозяйству, переездами с места на место, болезнями родных, утратами детей. Но именно будничная непритязательность, милое мягко– и чистосердечие ее исповеди кому-то очень близкому, родственнице или подруге, прозвучали разительно свежо посреди процветавшего в те годы трескучего велеречия, да и позже вспоминались как родниковое откровение.
Марселина Деборд-Вальмор
Почти все принадлежащее перу Деборд-Вальмор, как и в случае с ее предшественницей из XVI в. Луизой Лабе, вмещалось в русло того, что повелось называть «женской долей» – радости и тревоги влюбленной девушки, супруги, матери. И еще, самое здесь трепетное, пронзительно искреннее в своей беззащитной оголенности – слитно благодать и муки неразделенной страсти, нахлынувшей нежданно-негаданно, запретной, проклинаемой, втайне лелеемой:
Когда, измученный, он начинал сначала,
Но снова гасла речь в вечерней тишине,
Когда смятение в глазах его пылало,
Ответной мукою сжимая сердце мне,
Когда как тайну тайн, в заветнейших глубинах,
Уже хранила ты, душа моя,
Малейшие приметы черт любимых, –
Он не любил. Любила я.
Попробовав вернуть бесхитростную простоту доверчивого излияния души отечественному стихотворчеству, кичившемуся ученым лоском, наведенным еще в XVII в. Малербом, Деборд-Вальмор как бы невзначай открывала заново для Франции прелесть наивной детской песенки, старинной заплачки, немудрящей колыбельной. Здесь – источник напевности, отличавшей не только сочиненное ею для детей, но и вещи для взрослых. Прокладывая дорогу Верлену, раннему Аполлинеру, а в конце концов и Элюару, она охотно использовала полузабытые тогда короткие непарносложные строки, особенно мелодичные у французов, повторы, скрытые подхваты.