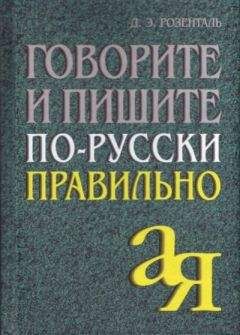Арам Асоян - Пушкин ad marginem
Конечно, эти параллели нуждаются в оговорках, которые предопределены отличием древнегреческого мира от мира христианской культуры. Но типологические сопоставления Орфея с Христом казались естественными уже в самом начале христианской эры. Так один из первых историков церкви Евсевий Памфилл (3-4 вв) и греческий писатель эпохи патристики Кирилл Александрийский (5 в.) были убеждены, что Христос свершил в духовно-нравственном мире то, что Орфей произвел в физическом. Орфея мыслили как предтечу Христа уже потому, что орфики проложили путь от оргиастического культа Диониса к внутреннему переживанию религиозного экстаза: «… орфизм, – писал по этому поводу авторитетный знаток проблемы, – не умеряет чрезмерность дионисийства, а превращает его в противоположную чрезмерность»[231]. В итоге Орфей стал как бы посредником между эллинской религией страдающего бога и христианским символом веры. И все же самое важное в типологии древнегреческого лирника с Христом обнажается в катабазисе Орфея, где он предстает не только страстотерпцем, но и как «начало Слова в Хаосе»[232].
Эта дефиниция, данная Вяч. Ивановым Орфею, применима к Данте; тем более, что спускаясь в Ад, он как бы повторял подвиг Христа, брал на себя бремя грехов человеческих и своими страданиями готовился искупить их. Не случайно небеса посылают к нему Вергилия в полдень Страстной Пятницы, время, когда скончался Христос, а встреча с Беатриче в Земном Раю происходит в пасхальное воскресенье. Все сроки и даты начала странствий Данте носят откровенно символический характер, словно дублируя порядок сакральных событий, связанных с крестной мукой Христа.
Но какое отношение имеет это к Пушкину? Недавно С. Бочаров обратил внимание, что в статье 1912 года Вяч. Иванов, определяя сущность Орфея, почти повторил характеристику Ап. Григорьева, которую тот дал Пушкину: «заклинатель хаоса и его освободитель в строе»[233]. Бочаров пишет: “Как для Вяч. Иванова, так и для Аполлона Григорьева, как в Орфее, так и в Пушкине, определение говорит о магической силе поэта, покоряющей и цивилизующей в случае первопоэта древнего прежде всего стихии природные и хтонические (Аид), в случае русского как «культурного героя Нового времени»[234], прежде всего стихии духовные, исторические и культурные”[235]. Заметим, что здесь отношения между Орфеем и Пушкиным формулируются Бочаровым по образцу тех, которые были очевидными для Евсевия Памфилла и Кирилла Александрийского. Так возникает еще один типологический ряд, намечающий, быть может, самый, – воспользуемся термином М. Бахтина, – «далекий контекст» творчества Пушкина. Бахтин писал: «В какой мере можно раскрыть и прокомментировать СМЫСЛ (образа или символа)? Только с помощью другого (изоморфного) смысла (символа или образа»[236].
Но вернемся к Орфею. Орфический сюжет не исчерпывается цивилизующей и космизирующей миссией поэта, хотя именно в этом качестве он скорее всего проецируется на творчество Пушкина, для которого идея полноты бытия, означенная в древнегреческой культуре гераклитовым символом «лука и лиры», была эстетическим и нравственным императивом. Недаром П. Мериме назвал русского поэта «последним греком». Вместе с тем нельзя обойти вниманием, что в мнемоническом ключе нисхождение Орфея уподобляется вдохновению поэта, или вызыванию усопшего из потустороннего мира. «Привилегия, которую Мнемозина представляет аэду, – отмечал, например, Ж.-П. Вернан, – заключается в чем-то вроде контракта с потусторонним миром, в возможности входить в него и вновь возвращаться. Прошлое оказывается одним из измерений потустороннего мира»[237]. В плане метаописания этот трансцендентальный descensus ad linferos сопоставим с вызыванием Пушкиным из небытия своей героини, «милого идеала» поэта, Татьяны.
Здесь не будет лишним вспомнить о такой примечательной особенности поэтики «Евгения Онегина», как о двоякой принадлежности Пушкина миру романа и миру становящейся действительности, что позволяет констатировать: «Пушкин создал Автора как блуждающую точку на пересечении различных планов текста (…) У Пушкина автор находится как бы на пороге своего романа»[238]. Такая ситуация актуализирует параллель между Автором в «Онегине» и Орфеем, пересекающим границу, разделяющую сферы на земную и подземную. Но главное, на наш взгляд, состоит в том, о чем треть века назад писал Позов: «В Татьяне вся русская душа – анима в целом, в ее архетипичности и первозданности, а в Пушкине – весь русский дух – анимус…»[239].
Резюмируя содержание этой цитаты, воспользуемся для характеристики взаимоотношений Пушкина и Татьяны, автора и его героини ключевым словом одного из пушкинистов – «единораздельностью». Оно подошло бы и для толкования двойного героя романа Сервантеса Дон Кихота и Санчо Пансы, которые крепко связаны между собой эффектом взаимопародирования, но диада Пушкин-Татьяна больше коррелируется с диадой Орфей-Эвридика, которую в глубинной аналитической психологии трактуют как мужское-женское в человеке, то есть как анимус и аниму. Мотив Эвридики-анимы нередко встречается в русской поэзии. Ближайший пример – стихотворение Л. Гумилева «Поиски Эвридики» с характерным подзаголовком «Лирические мемуары», где душа автора предстает тоскующей бесприданницей и подругой”[240]. В стихотворении Арс. Тарковского «Эвридика» героиня «Горит, перебегая, От робости к надежде, Огнем, как спирт, без тени, Уходит по земле, На память гроздь сирени Оставив на столе»[241]. В ней «Эвридике бедной», поэт узнает свою неприкаянную, милую музу.
Естественно полагать, что подобные образы Эвридики навеяны не столько открытиями глубинной психологии, и более того, совсем не ею, а пушкинской традицией, пушкинским романом, где Татьяна – “милая простота», «милый идеал» и, наконец, также незаметно, как Орфеева Эвридика, оказывается Музой поэта[242]:
И вот она в саду моем
Явилась барышней уездной,
С печальной думою в очах
С французской книжкою в руках[243].
Стихотворный роман Пушкина, пожалуй, скорее, чем какие-либо иные произведения русской литературы, подтверждает истину: «Текст живет, только соприкасаясь с другим текстом (контекстом)»[244]. Эти соприкосновения предполагают как аналогии, так и контрарные соответствия. В случае с «Онегиным» диалогические отношения пушкинского произведения с другими текстами осложнены тем, что его автор, по мнению, давно сложившемуся в литературоведении, “придавал большое значение «фактору сюжетной неопределенности, призванной расширить смысловой спектр романа»[245]. Более того, поэтическая ткань «Онегина» такова, что, фиксирует Чумаков, «ни один смысл не может быть понят буквально, так как в ней все перекликается и отсвечивает…»[246]. В результате диада Пушкин-Татьяна, корреспондирующая с Орфеем и Эвридикой, уступает место иной: Онегин-Татьяна, где сотериологическая функция переходит от одного персонажа к другому. Сначала она принадлежит Онегину, который, как Орфей, «оглянувшись», потерял возлюбленную. Затем из пассии, лица страдательного, Татьяна превращается в конфидента, призванного спасти героя. Здесь важно заметить, семиотика мифа об Орфее и Эвридике не исключает предположения, что нимфа исчезла во мраке Аида для того, чтобы предостеречь гибель кифареда. Увидеть мертвое лицо Эвридики – то же самое, что встретить взгляд Горгоны-Медузы: «Усопших образ тем страшней, чем в жизни был милей для нас» (Ф. Тютчев).
Конечно, Татьяна не Горгона, но став женой, супругой приятеля Онегина, она совершила обряд перехода, кульминационным моментом которого мыслится смерть, и ее отказ Онегину с определенной долей вероятности возможно толковать в духе орфического мифа, тем более, что в романе Пушкина, на что, кажется, первый обратил внимание С. Бочаров, сущее и возможное словно отражаются друг в друге[247].
Важен и тот факт, что контрарные соответствия между мифом и пушкинским романом предполагают всякого рода инверсии. Одна из них заключается в том, что в какой-то момент пленником Аида представляется Онегин: «Идет, на мертвеца похожий…» (VIII, XL). В результате функция вожатого воображается за Татьяной. Такой исход предваряет сюжетные коллизии некоторых тургеневских романов, где герой на первых порах является своего рода Орфеем, но затем, подобно мифическому персонажу, «не может сделать, – как писал Н. Михайловский, – ни одного шага без оглядки внутрь себя»[248] и терпит горестное поражение. Как будто откликаясь на этот перманентный сюжет русской литературы, Андрей Белый писал: «… мы не мы вовсе, а чьи– то тени, и души наши – не воскресшие Эвридики»[249].