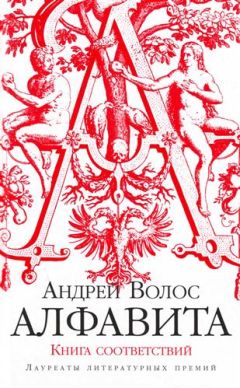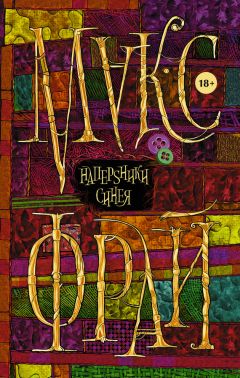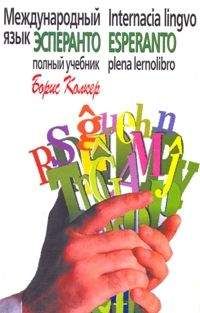Елена Бузько - «Сказание» инока Парфения в литературном контексте XIX века
Приведенные письма Григорьева подтверждают, что весной 1857 г. «Сказание» представляло для Григорьева живой интерес. Об этом свидетельствуют не только работа критика над статьей, но и оживленный разговор о книге с Салтыковым в марте того же 1857 г. Диалог обоих писателей о книге Парфения выходил за рамки личных взаимоотношений и получил отклик в литературной среде. Доказательство тому — воспоминания Н. Н. Страхова, в которых тот запечатлел разговор Григорьева и Салтыкова. Что касается позиции самого мемуариста, то он явно противопоставляет высоту паломнического подвига Парфения ничтожеству современного образования, породившему «холопов просвещенья»[189].
Для понимания того, как воспринималось «Сказание» в литературном контексте эпохи, встреча Григорьева и Салтыкова особенно важна. Воспоминания об их беседе сохранили и «Парадоксы органической критики». Григорьев утверждает, что Салтыков занимал «отрицательную позицию» по отношению к книге. Описывая свою встречу с Салтыковым, которого он именует «компетентным господином», критик был искренно возмущен позицией своего оппонента: «Компетентный господин — в ответ на мою речь, выразил только опасение насчет вреда подобных книг, что она, дескать, не развила бы слишком аскетического настройства. Господи, Боже мой! Да в какую нормально устроенную человеческую голову — тем более в голову такого умного человека, каков был мой собеседник — придет опасение, что после чтения книги инока Парфения — все в пустынножительство ударятся? Ведь это надо сделать, сочинить в себе. Ведь самый строгий религиозный взгляд не полагает как требования — непременного аскетизма. Ведь по самому строжайшему же религиозному идеализму — пустынножительство, аскетизм — суть явления не требуемые, а только существующие во свидетельство возможности достижения идеала»[190].
Судя по полемическим строкам автора «Парадоксов органической критики», направленным против Салтыкова, можно предположить, что к моменту встречи с Григорьевым у Салтыкова также сформировалась концепция его будущей статьи о «Сказании». Обоим литераторам книга Парфения предоставляла уникальный материал для понимания внутренней жизни народа, однако в самом понимании народности Салтыков расходился с Григорьевым. Приведенный пассаж из «Парадоксов органической критики» направлен в первую очередь против салтыковского понимания аскетизма, и причиной этого могло явиться негативное отношение Салтыкова к древним представлениям о благочестии. Остается предположить, что Григорьев своеобразно истолковал позицию Салтыкова, отождествив его неприятие народного аскетизма с неприятием самой книги Парфения.
Известно, что Салтыков обращался к «Сказанию» как к источнику, проливающему свет на темные стороны раскола. Созданные в книге картины и образы интересовали писателя в первую очередь как иллюстративный материал для обличения раскольников. Исходя из эстетики Григорьева, такой подход можно было бы назвать «односторонне историческим». Суть его состояла в том, чтобы ценить произведения искусства настолько, насколько они являлись иллюстрацией к жизни. Григорьев же категорически отказывался видеть в искусстве «рабское служение жизни». Нельзя утверждать, что Салтыков был носителем «исторического» (по терминологии Григорьева) взгляда, однако, очевидно то, что этнографическая точка зрения, которая приводит Салтыкова к выводу, что «предметом «Сказания» служат два капитальных явления русской жизни: паломничество и раскол», не могла вызвать у Григорьева положительного отклика. Очень вероятно и то, что Григорьев не разделял того отношения Салтыкова к старообрядчеству, которое сложилось у автора «Губернских очерков» ко второй половине пятидесятых годов.
По мнению Григорьева, книга Парфения свидетельствовала об органичности и временной неразрывности духовной жизни народа. Проявляя к сочинению о. Парфения не меньше личного интереса, чем Салтыков, и обдумывая свою будущую статью о «Сказании», критик в письме к Дружинину от 19 сентября 1856 г. так представлял проблематику книги: «Вопрос о великой книге смиренного монаха есть вопрос: 1) о сущности Православно-Христианского созерцания, 2) о постоянном пребывании Старых Элементов в жизни народа, о силе, величии, красоте этих элементов»[191]. Последний тезис для Григорьева был принципиально важен: критик развивал его в письмах и статьях и, основываясь на нем, относил «Сказание» к «настоящим», а не «деланным» произведениям.
Поставленные проблемы волновали Григорьева на протяжении всей жизни и в его эстетике были всегда тесно взаимосвязаны. Еще в «москвитянинский» период Григорьев видел главную цель критики в том, чтобы разъяснять читателю «народный смысл» новых литературных сочинений. Критерием для оценки и отбора лучших произведений, согласно Григорьеву, должно было стать «старокоренное русское воззрение». В основу деления современной литературы на «настоящую» и «вздорную» Григорьев положил связь (или ее отсутствие) с допетровской литературой, как духовной, так и светской, с фольклором, древними летописями и грамотами. Впоследствии, продолжая свою мысль и разделяя «деланные» и «рожденные» произведения искусства, Григорьев охарактеризует последние как «художественные отражения непеременного, коренного в жизни», у которого есть «корни в прошедшем, ветви в будущем». К таким «рожденным» сочинениям Григорьев относил книгу Парфени я, о чем вдохновенно писал в упомянутом письме к Дружинину от 19 сентября: «Как вдруг, откуда-то, из уединенного скита, спадает книга, которая языком, чувством и проч. соединяет Россию XIX в. с всею старою жизнию — наглядно, ясно и вместе наивно, — книга, отмеченная печатью великого поэтического дарования, соединенного с младенческою простотою, — книга, оживившая многих, — книга, которой ничего подобного нигде не встретите, — и, писавши о ней, — не дрогнет ли несколько раз рука, не остановится ли мысль, боясь дойти до ложного напряжения… о ней говорить всегда будет современно…»[192].
Впервые мысль о том, что «Сказание» — свидетельство органичности и временной неразрывности народной жизни, была высказана Григорьевым именно в апрельском письме к Боткину: «…на почве народного (не официального) православия, вдруг, нежданно вырастает перед Вами благоухающий цветок в виде книги о. Парфения, которая не только что восстановляет перед Вами свежестью чувства и безыскусственно-старыми формами языка связь с теми временами, когда игумен Даниил повесил, с позволения Годфрида Бульйонского, у гроба Господня кандило за землю русскую, но показывает ясно, что связь эта никогда существенно и не разрывалась, что коренной русский человек остался все такой же, каков он был во времена Мстиславов-стоятелей за вольную жизнь старой Руси… Все старое найдете Вы вечно новым, вечно живущим, существенным в книге отца Парфения, все даже до племенной вражды, которая наивно высказывается у него к гуцолам (хохлам), как наивно высказывается она у летописцев. Этим миросозерцанием — живут, как идеалом, конечно, — более 70000000 народонаселения: и насколько это миросозерцание способно к глубине мысли и к поэзии образа — свидетельство в той же книге о. Парфения…»[193]
Мысль о преемственности духовных начал, явствующая для Григорьева из книги о. Парфения, нашла подтверждение в таких статьях критика как «Русские народные песни», «Западничество в русской литературе», «Парадоксы органической критики», а также в его переписке. Неразрывность духовной жизни народа от XII до середины XIX столетия заключалась, по Григорьеву, главным образом в той «аскетической струне», которая создала «изумительное поэтическое миросозерцание духовных стихов».
Эстетическая концепция Григорьева принципиально отличалась от позиции Салтыкова. В отличие от Салтыкова, критик расценивал сочинение о. Парфения и древнее духовное творчество народа как явления одного порядка. Понимая под художественностью «выражение жизни народа», при котором «коренные нравственные начала жизни народа суть неминуемо и нравственные начала художества», Григорьев соотносил и поверял произведение того или иного автора идеалом «народного (неофициального) православия». Следуя этому принципу, он давал высшую оценку тем авторам, которые возвышались до «созерцаний религиозных», проводя при этом органическую связь с прошедшим. Для Григорьева аскетические мотивы «Сказания» свидетельствовали о непреходящих духовных устоях, о той связи времен, которая определяла художественную ценность произведения, что позволило ему назвать книгу о. Парфения вещью «совершенно народною», более того — отнести ее к явлениям «растительной» жизни.
При всем том критик отчетливо осознавал границу, отделяющую «растительную» поэзию от явлений культуры: «С одной стороны, Пушкин в поэзии, Белинский в деле сознания, Брюллов и Глинка в живописи и музыке, а с другой стороны — мир странных сказаний и песен, раскольническое мышление, хождение странника Парфения, суздальская живопись и народная песня…»[194] Григорьев равно высоко ценил те и другие творения, если находил в них «корни истинно народной жизни».