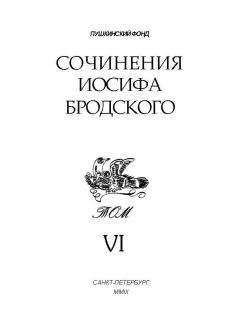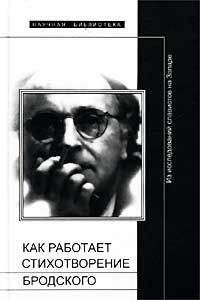Коллектив авторов - Пристальное прочтение Бродского. Сборник статей под ред. В.И. Козлова
Из первых двух строк стихотворения читатель получает емкую и весьма ценную информацию, в которой актуализирован акт говорения (инфинитив to say), неявно атрибутированный автору. Таким образом, голос автора не просто возникает, но явственно звучит уже в самом начале текста. В конце второй строки видим существительное audience, среди значений которого есть «слушатели», «зрители», «публика». Важно и то, что «публика», по мнению говорящего, может быть разной (depending on who's the audience), но жизненных ощущений кентавра это не меняет: кентавр прожил несчастливую, несчастную жизнь (he was unhappy).
Содержание 3-й и 4-й строк сосредоточено на активных свойствах-действиях кентавра: при жизни от него исходил (he'd give off, букв. «он выделял, испускал») неприятный запах, что, конечно, характеризует его, по мнению окружающих, отрицательно. В то же время за ним трудно было угнаться, что, казалось бы, можно расценить как положительную черту, но снова не в глазах окружающих. Так или иначе, но неизменной реакцией на кентавра со стороны «остальных» было его отвержение, неприятие. Для окружающих кентавр (был) неудобен и, скорее всего, неприемлем.
В 5-й и 6-й строках содержится ссылка на слова кентавра, оформленная по типу прямой речи, но в изложении автора. Здесь кентавр «заговорил», пускай и в прошедшем времени, т. е. в прошлом. Он пытается осознать загадку своего появления и предназначения, оправдать произошедший «сбой» причинами, якобы ни от кого не зависящими: должно быть, он — неудавшаяся статуя; задуманный, но не воплощенный монумент. И все же истинная причина его судьбы так и остается ему неведомой. В любом случае, причина в том самом породившем его, окружавшем его обществе, которое пребывает неизменно пассивным и безразличным.
Четыре следующие строки, с 7-й по 10-ю, являют собой эмоциональный пик (но не взрыв! — интонация остается спокойной, размеренной, приглушенной) стихотворения, в котором читатель видит очередную отчаянную попытку кентавра постичь смысл собственного бытия, оправдать случившееся разными мотивами. Кентавр словно перебирает и отвергает один за другим варианты причин собственной несостоятельности, краха: война так и не разразилась, «они» подружились с врагом, а его оставили «как есть» (здесь, наконец, возникают глаголы действий, выполняемых «ими»: befriended, left… to portray). Любопытно, что если монументы (как воплощение первоначального замысла при создании кентавра) из 8-й строки предназначены для увековечения, сохранения памяти о ком-либо/чем-либо, то к концу предложения становится ясно, что кентавр попросту был забыт, оставлен «как есть» — должно быть, в качестве иллюстрации «возможного», «вероятного», «осуществимого», т. е. или из гордыни, а скорее всего — в назидание. Рассматриваемый эпизод также содержит в себе трогательную попытку кентавра отвергнуть единственный вариант, который мог быть сочтен автокомплиментарным: его жизнь, его существование ни в коем случае нельзя оправдывать неповторимостью (uniqueness) или, тем более, добродетелью (virtue) его «я».
В 11-й и 12-й строках показана вся неприкаянность, внешняя и содержательная нелепость кентавра. Прежде всего, у него недостает того важного, если не главного, без чего он обречен на одиночество, — привычного всем облика. В своей бесформенности он подобен туче или облаку (resembling a cloud), и единственные существа, с которыми он ощущает родство по признаку «уродства», — это неподвижные оливковые деревья с их одноногостью (one-leggedness). Но связывает их противоположное: его способность к быстрому бегу в чем-то сродни их неподвижности.
Вынужденное одиночество постепенно приводит кентавра к оттачиванию мастерства лжи, но лжет он себе самому (an art… to lie to himself, строка 13). И когда «остальные», «они» совсем исчезают из текста и из вида (for want of a better company), — кентавр становится собственным слушателем; говорящий и воспринимающий речь сливаются в одном лице протагониста. Только такое — «кентаврическое» — выполнение двух противоположных ролей-функций, которое видим в 14-й строке, способно спасти его от безумия (to check his sanity).
Но бесповоротная двойственность натуры, сколь органична бы она ни была, оборачивается для субъекта губительной своей стороной: сочетание в себе разных начал приводит к концу, и достаточно раннему (вспомним, что срок жизни лошади короче продолжительности жизни человека). Идея смерти, переданная соответствующим глаголом в прямом своем значении (and he died.) перекликается с «эпитафией» в заглавии и замыкает текст смысловым кольцом.
Итак, в кентавре было больше человеческого, и на это указывает заключительное слово humanity («человеческая природа», но также «гуманность, человечность; гуманизм»), но трагедия его конца состоит в том, что его «звериная» часть оказалась сильнее. По сути дела, смерть — это попытка преодолеть тягостную амбивалентность, сохранить и закрепить за собой человеческие качества в ущерб животным.
Сразу после прочтения текста может возникнуть естественный соблазн отождествления протагониста с автором, тем более что основания к такой трактовке, кажется, дает читателю сам Бродский. Так, первая строка стихотворения, где со спокойным достоинством заявлено о несчастье как о важнейшей стороне и характеристике жизни кентавра, заставляет вспомнить строку «Только с горем я чувствую солидарность» из открыто автобиографического стихотворения «Я входил вместо дикого зверя в клетку» (написано 24 мая 1980 года, т. е. в день сорокалетия поэта), в котором «я» лирического героя и образ автора неотделимы друг от друга[59].
Далее. В «Набережной неисцелимых» Бродского есть красноречивый эпизод: «При определенном роде занятий и в определенном возрасте нет ничего привычнее, чем не иметь цели. Как и путать черты и свойства двух или более существ и, конечно, их род. В общем, все эти бредовые существа — драконы, горгульи, василиски, женогрудые сфинксы, крылатые львы, церберы, минотавры, кентавры, химеры, — пришедшие к нам из мифологии (достойной звания античного сюрреализма), суть наши автопортреты»[60].
Личностная амбивалентность как самоощущение Бродского видится во многом: будучи русским поэтом, он вынужден был жить и работать вдали от родины, в отрыве от родного языка и людей, говорящих на нем. Он сочинял на двух языках — русском и английском, причем в поздний период творчества количество его английских текстов заметно выросло (эссе, автопереводы, стихи[61]). Остро ощущая собственное одиночество (см. весь текст Epitaph…), в одном из интервью Бродский ответил на вопрос журналистам… сегодня вы остаетесь человеком более или менее одиноким?»: «Не более или менее, а абсолютно»[62]. В другом интервью, рассуждая о такой просодической характеристике собственной поэзии, как метр, Бродский невольно признался в том, как воспринимает собственное творчество: «Чем монотоннее, глуше все это звучит, тем более… оно похоже на правду. С годами все это становится сложнее и сложнее, но хотя бы метрически надо говорить о себе в стихе правду»[63]. Трудно найти высказывание, в котором определение поэзии как «лжи, адресованной самому себе», столь идеально «накладывалось» бы на содержание строки 13-й из Epitaph. («Learned to lie to himself, and turned it into an art»).
Собственно, некоторые исследователи, обратившие внимание на «Кентавров» Бродского, пошли именно по пути отождествления этого античного образа с авторским «я». Так делает, например, О.И. Глазунова, когда пишет: «С образом кентавра у Бродского связаны глубоко личные мотивы… Поэт стал тем самым кентавром — новой явившейся миру сущностью»[64].
Нас, однако, такой подход в трактовке не удовлетворяет по причине своей упрощенности и очевидной одномерности. При допущении подобной точки зрения возможным оказывается осознание как автобиографической любой вещи, в которой так или иначе актуализированы мотивы творчества, одиночества, самоизоляции и проч. — например, «Осенний крик ястреба» (1975), где присутствует все названное, причем на ярком фоне значительного числа реалий, корреспондирующих с жизненными обстоятельствами Бродского в первые годы его проживания в США.
Если сравнивать с предыдущими «Кентаврами», текст Epitaph for a Centaur оказывается чрезвычайно удобным для семантического (содержательного) анализа с вытекающей интерпретацией еще и по той причине, что в нем выдерживается естественная последовательность событий от рождения протагониста до его смерти. Поэтому анализировать его, по нашему мнению, было необходимо именно с опорой на естественную «жизненную матрицу» и с учетом разворачивающейся динамики заключенных в нем смыслов, переданной логически оправданным лексическим рядом (прежде всего глаголов, среди которых выделяются глаголы речи, но также и других слов с общими и конкретными значениями действий).
В результате приходим к выводу, что в тексте явлен «тихий конфликт», возникающий как неизбежное противостояние между любой нестандартной, незаурядной личностью и окружающим ее социумом. Кентавр, это мыслящее существо, буквально разрываемое на части ввиду собственной амбивалентности, страдающее от неспособности постичь свое исходное предназначение, — создан людьми, т. е. обществом, но причина его появления так и осталась неясной. Из трех «действующих лиц» стихотворной пьесы — кентавра, автора, публики — именно последняя на протяжении всего текста хранит глухое, угрюмое молчание. Оправданным поэтому кажется избранный жанр эпитафии: обществу не нужны, не требуются кентавры, кентавр должен погибнуть. Его ранняя смерть представляется столь же естественной, сколь противоестественна его двойственная природа.