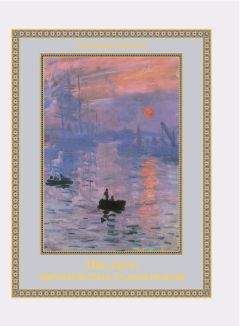Линор Горалик - Частные лица. Биографии поэтов, рассказанные ими самими
ГОРАЛИК Чем это объясняется?
ЗАВЬЯЛОВ Грубо говоря тем, что это оккупированные территории. А я перенес это все на свою мордовскую почву, которая тоже колонизированная страна. Где остаются жить коренные жители? В деревне. Лучшие места всегда занимают завоеватели. И вот мой герой, господин Террео, идет по горам и читает таблички на домах, а потом оказывается, что он сам так и не выучил родного языка, хотя и принимался его учить. Вторая часть была написана в Освенциме, где я был летом. Взято жуткое стихотворение Сесара Вальехо, который вспоминает свое детство, и вот: умерли все, кого он помнит. У меня же этот сюжет переносится в мир тотального уничтожения: какой-то персонаж вспоминает какую-то подростковую компанию, она абсолютно несимпатична, и сам он тоже абсолютно несимпатичен. Но человек вообще не то что несимпатичен – он отвратительное существо, в принципе любой человек сам по себе отвратителен. И когда в твоих глазах стоят эти многие тысячи стеклышек от очков, которые навалены в освенцимских бараках, или многие тысячи зубных щеток, или кружек, или детских горшков, то как-то все начинает принимать другой оборот, иначе выглядит: добро – зло, хорошее – плохое.
...Петербург. 2007 год
Владимир Гандельсман
Гандельсман Владимир Аркадьевич (р. 1948, Ленинград). Окончил Ленинградский электротехнический институт. Работал конструктором, сторожем-истопником, грузчиком, гидом, театральным режиссером. С 1989 года живет в США. Преподавал русский язык в Вассарском колледже (Пакипси). Переводил с английского и литовского. Лауреат премии Liberty (2010), премии «Московский счет» (2011).
ГОРАЛИК Если можно, расскажите про вашу семью до вас.
ГАНДЕЛЬСМАН Я был третьим ребенком, у меня две сестры довоенного происхождения, а я родился в 48-м, и совсем недавно, прочитав письмо папы с фронта, узнал, что они с мамой замышляли мальчика, когда отец вернется с Северо-Западного фронта. Этот замысел существовал, пока я не родился, еще три года после войны пытались меня родить – и в конце концов родили. Мама родом из Невеля, папа – из Щорса, городка под Черниговом, описанного Рыбаковым в «Тяжелом песке», фамилия Рыбаков там была известна. В детстве я часто туда ездил, и это одно из самых замечательных впечатлений. Я родился в Ленинграде, папа возил нас, меня и маму, к себе на родину, ездили однажды на своей машине, папа был военный, у него была машина, «он ее любил»… Мы жили в военном доме на Чапыгина, 5, квартира эта до сих пор существует, без папы и без мамы, там живет моя племянница с семьей. Папа был военно-морской человек, капитан первого ранга, и в сравнении со многими малоимущими людьми хорошо зарабатывал. Машина называлась «Победа», по тем временам редкость, в одну из поездок в Щорс мы на ней и отправились. Уже на подъезде попали в жуткую грозу и грязь, местные пацаны скакали возле машины и кричали: «Загрузнешь!» Ехали нестерпимо долго, с какими-то ночевками, не помню где, потому что происходило это в раннем-раннем детстве. Городишко был тогда потрясающим, он был еще местечком, так что в детстве мне удалось увидеть, что это такое. В войну там были фашисты, все усеяно братскими могилами, местные оттуда бежали. Потом они вернулись, жили единой большой еврейской семьей. Помимо того там жили, конечно, украинцы, существовали дружно и уютно. Учась в одиннадцатом классе, я съездил туда, к сожалению, ничего от этого местечкового рая не осталось. Быстро-быстро, годам к 70-м, все исчезло. А вот любовная атмосфера местечка мне запомнилась. Там жила сестра папы тетя Феня, туда регулярно наведывался его старший брат Марк. У отца была масса братьев и сестер. Брат Марк был остряк, все время пританцовывал и шутил – глупо шутил, но мне нравилось. Какие-то это были еврейско-украинские шутки, изрядно идиотские. А тетя Феня всю жизнь прожила в Щорсе, за исключением военных лет. У нее был дом, и там паслись свои Марики и Борики… К ее дочке Розочке приезжал жених, Смогаринский Саша. Он ел курицу на веранде, и куриные косточки летели во все стороны. А тетя Феня подслушивала, о чем ее дочь говорит с женихом, который потом стал мужем… Потом они нарожали своих Мариков и Бориков… Тетка подслушивала под дверью, чтобы понять, толочь мак или не толочь – то есть печь пироги или нет, будет свадьба или не будет. Эта присловица «толочь мак или не толочь» со всеми специфическими интонациями так и засела в голове. Один из Мариков всю дорогу ходил грязный, немытый, его заставляли перед сном умываться, а он кричал: «Или уши, или шею!» В общем, было много присловиц, которые привозились в Ленинград, и мы всячески, как люди интеллигентные, посмеивались, мы были ленинградцы, а они деревенские, с украинско-еврейским акцентом. Вот эта атмосфера, узкий железнодорожный мост через пути. Дело в том, что Щорс (до советской власти – Сновск, а сейчас не знаю) – это железнодорожный узел, развязка и поэтому всегда оживленное место. Весь город как на ладони, ты идешь к реке купаться и проходишь через железнодорожный мост, мимо вечного нищего с кепкой, кочегары какие-то, депо, пар из этого депо, и там чумазые машинисты сидят, мимо рынка, где умопомрачительный запах груш и дынь. Да и не только запах: все, что видишь вокруг – это место, где и время течет по-другому, все запечатлевается в виде ярких шаров памяти. Это всегда были летние каникулы, зимой я там не бывал. Вот это одно из замечательнейших впечатлений жизни.
ГОРАЛИК До скольких лет вы ездили?
ГАНДЕЛЬСМАН Впечатления эти класса до четвертого, лет до одиннадцати-двенадцати, потому что потом восприятие слабеет и человек не может так остро воспринимать жизнь, когда все очень ярко, до слез.
ГОРАЛИК Каким вы вообще были ребенком? Как вы были устроены маленький?
ГАНДЕЛЬСМАН Я все больше плакал, я думаю, не столько от обиды… Наверное, был страшно избалован. Меня обожали родители, я рос в атмосфере любви сестер, бабушки, маминой мамы Гени Абрамовны… Она была хромая и часто падала, а папа над этим посмеивался. Ее надо было поднимать, я уходил в школу, а когда возвращался, иногда из-за двери слышал ее крики, что-то на идиш типа «вейзмир», она сама не могла подняться. У нее была деформирована нога – последствия убегания от немцев и эвакуации. Она постоянно роняла палочку, с которой ходила, и падала сама, а дворники-татары, жившие напротив, когда никого не было, вскрывали топорами дверь и ее поднимали. Это был предмет папиных шуток, папа очень любил шутить, как и его старший брат Марк. Папа в меньшей степени, чем Марк, но этот еврейский идиотизм сидел и в нем, есть такие идиоты… ну, в хорошем смысле. Такой примерно, как Шагал: когда я его увидел – я увидел папу, или этот великий пианист Горовец, вы видели, как он кривляется на сцене, – за кулису уходит, рожи корчит. Вот этот весь провинциальный идиотизм по отцовской линии присутствовал. Национальная пластика в чужой среде. Но папа был партийный человек и за пределами квартиры – никакого идиотизма… Да, я плакал. Помню себя все время в слезах. Видимо, я никуда не хотел, совсем никуда, это мама хотела: «вставай в школу», «пора на музыку» и т. д., что-то невозможное. Самым невыносимым испытанием были уроки музыки. Наверное, еще до школы меня начали таскать по учителям музыки, я этого не переносил, у меня не было дарования.
ГОРАЛИК Фортепиано?
ГАНДЕЛЬСМАН Да. Дарования не было и – это взаимосвязано – не было тяги, музыка мне давалась с трудом. Помню, когда меня приводили к частной учительнице – они все, наверное, были хорошими женщинами, но запомнились какими-то угрожающими, – как только я садился за рояль, я начинал плакать, ничего не мог сыграть. Это такая любовь родительская, которая может свести с ума. Наверное, так не только у евреев, но не зря же существует выражение «еврейская мама». Из-за любви, огромной любви, в которой я не сомневаюсь, мама меня мучила восемь лет – сначала частные учителя, потом ДПШ, что значит Дом пионеров и школьников. До сих пор мне снятся сны, что я не выучил урок по музыке. Второй страшный сон – это уже в связи с институтом. Мне очень трудно было на последних курсах, я учился в Электротехническом институте имени Ульянова-Ленина, где сначала держался на школьных запасах, а потом стало невмоготу. К тому времени я начал писать стихи, более или менее всерьез, что отвлекало. И я стал учиться откровенно плохо, последние два курса – как страшный сон, вот он и снится до сих пор, не знаю, как я окончил институт, надо было любыми правдами и неправдами не загреметь в армию, все это было запрограммировано родителями. И в результате лет девять жизни – пять с половиной в институте, а потом три года в конструкторском бюро – это, как говорят эмигранты на Брайтоне, вырванные годы.
ГОРАЛИК Когда вы избавились от музыки?
ГАНДЕЛЬСМАН В восьмом классе, когда я уже обнаглел и мог перечить маме – папа был человек гуманный, он в этом не участвовал, – тогда я сказал, что все, кончено. На этом мои музыкальные мучения прекратились. Принято говорить: «Я благодарен тому-то и тому-то за то-то и то-то…» Я никакой благодарности не испытываю – при всей моей любви к родителям, которых нет уже на свете, за уроки музыки я ничуть не благодарен, это была напрасная затея. Так же они меня вынудили пойти учиться на инженера, что не соответствовало моим наклонностям, боюсь, что и наклонностей никаких не было, но инженер… Тогда казалось, что это надежная профессия – знаете эти разговоры про кусок хлеба… Какой это был кусок хлеба? Особенно, когда рухнула советская власть… Смешно…