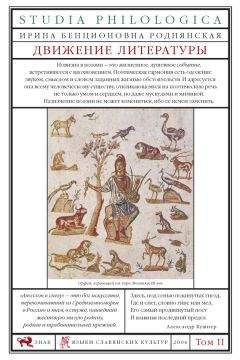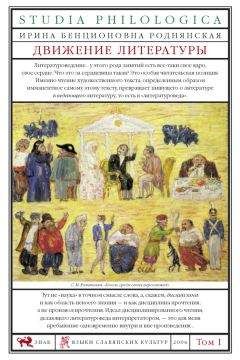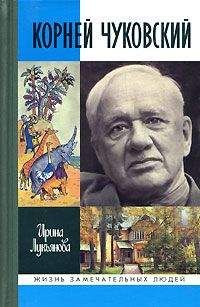Движение литературы. Том I - Роднянская Ирина
«… Как красота – ненужная в семье», «Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать», – недаром поэтами сказано такое в веке двадцатом. Красота – не примирительный елей, изливаемый на волнения мира, а назойливое напоминание об излишнем и ненужном для беспрепятственного «шествия серединности»; раздражитель рядового человека, она выпускает на волю фурий. Этой тревогой, исходящей от красоты, резонирующей в рядовых мира сего и сторицей возвращаемой ими в повседневность, проникнуты в «Кавказском пленном» каждая обытовленная мелочь, каждый знак препинания. История, написанная на фоне светоносного горного ландшафта, вливается в русло «подземной» маканинской прозы с ее гнетущим инфракрасным излучением.
Один из ключиков к «Лазу», да и ко всей этой прозе – сцена подземельного опроса об отношении к будущему (разрядка принадлежит Маканину). «Опрос до чрезвычайности прост. Если ты веришь в будущее своих полутемных улиц, ты берешь в учетном оконце билет и уносишь с собой. Если не веришь – билет возвращаешь. (Это очень зримо. Возвращенный билет бросают прямо на пол.)» Простим Маканину заимствование у Ивана Карамазова и посмотрим, что же «зримо» получилось. «Люди в кафе нет-нет и поглядывают, как растет холм возвращенных билетов. Холм уже высок… Один из комиссии… страстно кричит уходящим: “Опомнитесь!.. Будущее – это будущее!”…Но они бросают и бросают свои листки, возвращают свои билеты. Холм уже в человеческий рост».
Неверие в будущее – вот диагноз болезни конца тысячелетия, диагноз, кажется, универсальный, хотя он будет не менее удручающ, если ограничиться лишь собственной страной. Нечего говорить, как тесно это связано с дефицитом мужества, уже обнаруженным нами. Человечеству, во всяком случае – российскому человечеству, как Геннадию Павловичу Голощекову из «Одного и одной», «тяжело уже жизнь жить», оно устало от крови и слез, не знает, чем искупить и оправдать их в этом треклятом будущем. Боюсь, уже можно сказать, что ни одно из «антиутопических» предсказаний не осуществилось с такой очевидностью, как это. Ужасы «Невозвращенца», оскудение «Новых робинзонов» – не сбылись или сбылись лишь отчасти, местами, с надеждой на исправление. Усталый отворот от будущего – это сбывается. Какие там инвестиции, если «тяжело жизнь жить», если сломлен дух.
Завершение тысячелетия, истечение миллениума – срок, рисующийся слегка мистическим и самому несуеверному сознанию. В конце первой тысячи лет по Р. Х. люди, европейцы, ожидали второго пришествия, конца времен (того самого: «времени уже больше не будет», – что обещано Апокалипсисом Иоанна Богослова). Медиевисты знают, как серьезны были эти ожидания, как определяли они коллективное поведение целых обществ, стран – подчас разрушительным образом. И однако же: то была вера в будущее – в «жизнь будущего века», простирающуюся за гранью исторического времени. Как свидетельствует исполненный тревоги русский писатель, сейчас от будущего не ждут даже того, что оно кончится, – даже эсхатологического финала.
Разумеется, диагноз Маканина – относителен, разумеется – неокончателен, как не окончена вся эта линия его новой прозы. Но Маканин из тех, кто первым берет след. И что он, зондируя иррациональный пласт коллективного умонастроения, верно считывает показания своего прибора – сомнению не подлежит. Сейчас газетчики много и охотно пишут о «технологиях XXI века», о «лекарствах XXI века», об Интернете, меняющем (действительно) на пороге XXI века глобальное межчеловеческое пространство, – а людские сердца тоскуют по прошлому, по «старым песням о главном». И не в том вся беда, что это взыскуемое массой прошлое было у нас коммунистическим, тут еще малая опасность; самая большая – потеря интереса к творчеству жизни, вялое пережевывание прошлого как готового и проверенного продукта без порыва создать что-нибудь лучшее, сделать шаг к идеалу (своего рода постмодернизм толпы – пародийный «конец истории»).
Да не будет так!
Маканин чаще склонен внедряться в земную глубь и редко поднимает взгляд вверх – разве что припоминается плавная певучая линия, «где сходится небо с холмами». И все же есть в самой мрачной его вещи одна сцена, в которой чудится апология человека как существа, обращенного ввысь и питающегося надеждой. Это финал повести «Долог наш путь» – после деловитых кошмаров скотобойни и после кончины Ильи Ивановича в психушке.
Молодой изобретатель задумывает тайком покинуть упрятанный на безлюдной территории мясокомбинат – место своего заточения (ведь ему, постигшему секрет зла, заказан путь назад, к тем, кто пребывает в неведении). Он пробирается в ночную степь и зажигает там костер, чтобы подать о себе знак какому-нибудь пролетающему мимо вертолету. И вот, оказывается, такие же ночные костры жгут по соседству с нашим героем едва ли не все обитатели заклятого места: стар и млад, новички и ветераны, чернорабочие и начальники, простодушная коровница и идеолог убойного производства главный инженер «Батяня». У каждой живой души свой костерик, своя свеча, и все всматриваются в ночное небо в напрасном – а вдруг не напрасном? – ожидании легендарного вертолета, в надежде на спасителя, Спасителя.
Не торжество ли это поэзии (и правды) над жутким сюжетом существования? Может, и впрямь наш путь хоть и долог, но не пресекся.
Уроки четвертого узла (Александр Солженицын)
Не составит труда обильно цитировать документированные отрывки из «Апреля Семнадцатого», которые отзовутся в сердце жителя распавшейся послеавгустовской страны щемящим сходством. Например: «Требования автономии разносятся как эпидемия! Мы уже слышим о них каждый день и отовсюду. Местной автономии требуют эстонцы, иркутские и забайкальские буряты, молдаване, латыши, грузины, литовцы, крымские татары, хивинцы, бухарцы… В Астрахани образовался центральный калмыцкий комитет… И все сразу – за расширение. Литовцы обозначили свои губернии с избытком против поляков… Белорусы требуют – отдельного учредительного собрания… в Иркутске уже выработали готовую сибирскую конституцию: мол, сибиряки – это отдельный культурный тип, уклад их отличен от русских, экономически они в противоречии с Россией, эксплуатирующей их богатства и территорию…» Или: «У Николаевского вокзала и на Лиговке открыто продают порнографию. В кинематографе на одной из Рождественских улиц показывают богохульный фильм “Жизнь Христа”, вакханалия пошлости. Приманка: “прежде запрещенный”…» Или еще – как про наше, сегодняшнее: «Чего в самом деле, они на правительство? Только установили – и сбрасывать?»
Но занимают меня сейчас не эти – или более глубокие – аналогии между двумя историческими ситуациями. Поразила меня, так сказать, жанровая близость этого последнего узла, доведшего повествование до «обрыва», к той жизненной и информационной атмосфере, в которой мы нынче все живем и которую в себя ежечасно впитываем.
Известный литературный критик Игорь Дедков, обозревая первые три узла, от «Августа Четырнадцатого» до «Марта Семнадцатого» и подвергая Солженицына мягкой, амортизированной множеством похвал и тонких наблюдений «проработке» за идеологическую тенденциозность, горюет, что романный цикл, вначале ступавший в след толстовской эпопее, растерял по дороге эти свои качества и приобрел какие-то совершенно иные. «Первоначальная традиционность романа постепенно становится приятным воспоминанием»: исчезает предвкушаемая «чудесно-живая романная хитросплетенность, создающая одну из самых блистательных и завораживающих иллюзий, дарованных человеку, – иллюзию включенности в другую – сверх своей, единственной, – жизнь». Сходят на нет «маленькие оазисы совсем простой жизни, совсем простого воздуха», позволявшие «забыть об истории», – пишет Дедков, напоминая Солженицыну его же собственные слова об этих «оазисах». И не менее справедливо констатирует, что «авторский интерес сосредоточен на политической общественности: люди русской культуры начала XX века в формировании отечественной истории как бы не участвуют…»