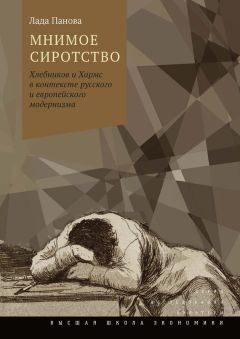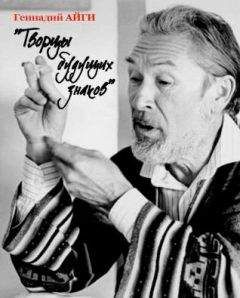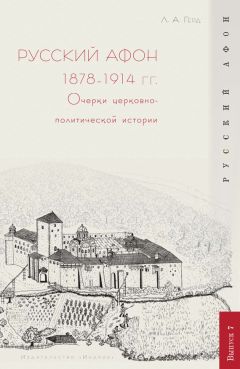Светлана Пискунова - От Пушкина до Пушкинского дома: очерки исторической поэтики русского романа
Решение нашей задачи существенно осложнено тем, что, если «Дон Кихот» со времен романтизма почти единодушно считается первым европейским романом Нового времени, то начавшийся сразу после выхода в свет первого тома задуманной Гоголем трилогии спор о жанре «Мертвых душ» (роман это или же эпическая поэма в прозе? и, если роман, то какого типа?) в гоголеведении не утихает до сих пор. К тому же ученые, – в их числе Ю. В. Манн, – пытающиеся доказать, что «Мертвые души» органично вписываются в общеевропейскую романную традицию3, исходят из того, что Гоголь в своем романном замысле изначально ориентировался на жанр плутовского романа. А плутовской роман, точнее, испанская пикареска (этот термин корректнее применять к определенной совокупности текстов испанских прозаиков Золотого века, включенных романоцентристским XIX веком в историю литературы под грифом «плутовской роман»4) и роман «сервантесовского типа» – исконно антагонистические линии развития романного жанра. И тогда само сравнение «пикарески» Гоголя и романа «Дон Кихот» теряет смысл.
Однако нам мысль об изначальной ориентации Гоголя на плутовской роман, каким он сложился в Испании во второй половине XVI – начале XVII века, представляется спорной. Ведь пикареска – это жизнеописание плута, обязательно берущее начало с момента его рождения, поскольку его судьба во многом обусловлена его происхождением (вопреки представлениям Ю. В. Манна, в происхождении этом не должно быть ничего тайного, хотя оно и весьма сомнительно). Далее пикареска включает в себя повествование о своеобразном «антивоспитании» будущего «пройдохи» и о его попытках «прыгнуть выше головы», вписаться в социум («причалить к добрым людям», как говорит о себе Ласарильо – герой первого образца жанра «Жизнь Ласарильо де Тормес»). Для этого пикаро5 готов воспользоваться любыми нечестными средствами, хитрить и обманывать, одновременно всячески отстаивая свою иллюзорную «честь» (еще одно ключевое для пикарески понятие). Но всякий раз, когда пикаро, казалось бы, добивается желаемого, всемогущая Фортуна низвергает его с вершины успеха на дно жизни – туда, откуда он начинал движение вверх. При этом «пикаро» и «слуга многих господ» – отнюдь не синонимы6, да и подглядывание за чужими жизнями – отнюдь не главное занятие плута-«прихлебалы» (одно из наиболее точных значений слова pícaro).
Нетрудно заметить, что все перечисленные приметы пикарески возникают лишь в ретроспективной биографии Чичикова в одиннадцатой главе первого тома «Мертвых душ»: именно тогда – и не раньше – гоголевское повествование переходит в жанровый регистр плутовского жизнеописания, которое уже в первом классическом образце пикарески – «Гусмане де Альфараче» М. Алемана – включало мощный дидактический план. «По мере движения сюжета, – пишет С. А. Гончаров, рассматривающий „Мертвые души“ в контексте „учительной“ культуры, – риторический принцип (у Гоголя. – С. П.) все более утверждается в своих правах, обретая полноту воплощения в заключительной главе, в которой контрастным (а на самом деле – вполне традиционно-барочным. – С. П.) образом сходится жанрово-стилевой пласт авантюрно-плутовского романа… с риторикой проповеди и поучения»7. Правда, повествование у Гоголя ведется не от первого лица, что является конститутивным моментом классической пикарески, но отказ от Ich-Erzählung в данном случае компенсируется максимальной сближенностью в этот момент точки зрения повествователя и точки зрения героя, так что жизненный путь Чичикова раскрывается в его плутовской псевдоисповеди не только извне, но и изнутри (автор исподволь готовит своего героя к превращению из «человека внешнего» в «человека внутреннего», запланированному на второй том).
Тем не менее, оказавшись на какое-то время во власти пикарескного жанра, Гоголь позволяет себе рассуждение, от которого он в дальнейшем всячески стремился отмежеваться8, – о врожденной склонности человека к пороку, о власти над ним «страстей» (в данном случае – страсти к приобретательству). Все эти мотивы запрограммированы в исповедях пикаро-героев жанра. Но они были глубоко чужды Гоголю.
Впрочем, и в классической пикареске рядом с представлением о зависимости человека от своего происхождения, от своего тела (мотив голода в «Ласарильо»), от чувственных влечений (у Гоголя, как и у русских масонов, – «страстей»), от обстоятельств и от фортуны, звучит тема свободы воли, выбора между добром и злом, дарованном человеку Богом. Она вложена в уста вставшего на путь исправления пикаро-повествователя. Такова композиция классической – барочной – пикарески, достаточно далекой, по мнению современных исследователей9, от жанра романа. Так называемые «плутовские романы» в своем большинстве – это риторические дискурсы, плутовские проповеди10. Произнося их, пикаро или антипикаро черпают аргументы для подтверждения своих моральных и социально-антропологических тезисов из собственного жизненного опыта и иллюстрируют аллегорическими заставками-притчами.
Но пикаро-повествователь (как и пикаро-персонаж) – «человек внешний». Строй гоголевской «проповеди» (так В. А. Недзвецкий неслучайно определяет жанр «Мертвых душ») в этом смысле коренным образом отличается от проповеди «плутовской». «…Автор, – пишет о Гоголе С. А. Гончаров, – стремится эмпирическому изображению придать не только предельное обобщение и символический смысл, но и возвести читателя в область "внутреннего духа", религиозно-символического понимания, которое автор стремится замкнуть на самопознание читателя, на вопросы, обращенные к себе. Поэтому движение читателя подобно "лестнице", пути восхождения от конкретного к духовному, который может прочитываться как путь откровения и спасения»11. Коренное отличие поэмы Гоголя как жанрового целого от пикарески состоит в том, что «поэтический гностицизм Гоголя…соединяет в себе мифологическую интуицию… с религиозно-учительным рационализмом…»12.
В частности, дидактическая нацеленность гоголевского дискурса опирается на мощную традицию «низового» украинского барокко и русскую масонскую традицию, существеннейщей мировоззренческой «составляющей» которого был гностицизм. В вырастающем из гностической мифологии «герменевтическом сюжете» поэмы Гоголя, реконструируемом современными исследователями (М. Вайскопф, С. Гончаров), отчетливо просматривается архетипический сюжет «песен посвящения» (или «просветления», «озарения», как именует этот метажанр К. Наранхо), восходящих к ритуалу инициации и включающих в себя жанрообразующую тему испытания и сопутствующие ей мотивы смерти / воскресения, нисхождения / восхождения, борьбы света и тьмы. В метажанровую пардигму «песен посвящения», как правило, глубоко «законспирированную» в недрах иных жанровых традиций, встраиваются и «Одиссея», и «Божественная комедия», и рыцарские романы (прежде всего о Ланселоте Озерном и поисках св. Грааля). Влияние этой метажанровой традиции можно найти и в «Жизни Ласарильо де Тормес»13, и в последнем романе Сервантеса «Странствия Персилеса и Сихизмунды» (1617). К ней относятся и другие образцы барочных аллегорических «поэм» (или «эпопей»), как стихотворных («Потерянный рай» Дж. Милтона), так и прозаических («Критикон» Б. Грасиана, «Телемах» Фенелона), а также стихотворно-прозаических («Путь паломника» Дж. Бэньяна, «Любовь Психеи и Купидона» Ж. Лафонтена). В России во второй половине XVIII – начале XIX столетия эту традицию замыкает так называемый «масонский роман», в последние двадцать лет все более привлекающий внимание исследователей14.
Именно c этим «романом» (в нашей терминологии он – не novel, а romance) еще в конце 1990-х годов соотнес жанровый замысел «Мертвых душ» М. Вайскопф15. «По существу (хотя и с необходимой поправкой на плутовской роман, а с другой стороны – на амбивалентность гоголевского сюжета), – пишет Вайскопф, – он (Чичиков. – С. П.) подвизается в роли обычного масонского странника, проходящего, на манер героя «Кадма и Гармонии», сквозь строй антиутопических миров – стран или планет, – персонифицируемых их повелителями… Образная система «Мертвых душ»… выросла из барочно-мистической аллегорики… Эккартсгаузеновские «Обитель смирения» и «Храм самопознания», с которых начинается восхождение пилигрима, преобразились в пародийный маниловский «Храм уединенного размышления», а бездушный «Скоточеловек», противопоставляемый грядущему «Духочеловеку», – в Собакевича… По масонскому трафарету, загадочный путешественник Гоголя воплощает в себе историю общечеловеческой души…»16.
Единственное, чего не учитывает (вернее, учитывает мельком – см. пассаж о Манилове) вполне убедительная, на наш взгляд, концепция Вайскопфа – гоголевского смеха, того, что «Мертвые души» – в такой же степени «масонский роман», как и пародия на этот жанр. А также на сентименталистско-предромантическую прозу. И на прозу романтическую на этапе ее превращения в массовое бюргерское чтиво («Ринальдо Ринальдини» Вульпиуса). Вот здесь-то создателю «Мертвых душ» оказывается по-настоящему нужным опыт автора «Дон Кихота», которого Пушкин неслучайно ставил Гоголю в пример, советуя взяться за большой роман: «путь паломника» в романе Гоголя пролегает не просто по пути «духовного рыцаря» (Лопухин), но и по пути рыцаря комического, рыцаря Печального Образа – с выбитыми зубами и растекшимся по лицу мягким сыром… Не случайно, по тонкому наблюдению В. Е. Багно, объектом гоголевской пародии в «Мертвых душах» оказывается сам Дон Кихот: «…Хотя Чичиков, подобно Дон Кихоту, активно вторгается в действительность и действия их одинаково отличаются от обычного поведения, различие между ними состоит уже хотя бы в том, что Гоголь, вероятно, пародирует энтузиазм Дон Кихота энтузиазмом своего героя, придав ему в противоположность первому практический смысл…»17.