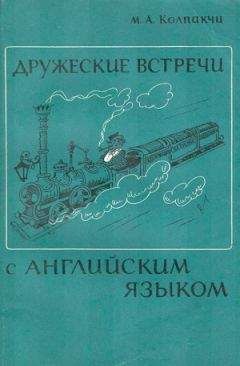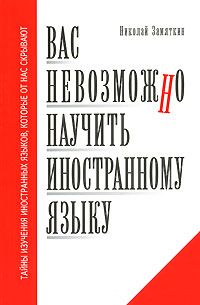Ирина Роднянская - Движение литературы. Том II
В таких вещах Олеси Николаевой, как «Слепой», «Боль», «От себя», «Возлюбленный», «Утро», «Гимн свету», «Похвала Ольге», замечательно воспроизведена и варьирована традиционная духовно-этическая проповедь, а от последних двух можно без натяжек сделать отсылку даже к поэтике Франциска Ассизского или Епифания Премудрого. Советую в особенности прочитать «Похвалу Ольге», где известный эпизод предания (месть княгини Ольги древлянам) используется как отправной момент аллегорической, по-своему величавой картины из жизни «внутреннего человека»: низкие побуждения и страсти, подобно обидчикам-древлянам, сгорают в очистительном огне, зажженном «жертвенными птицами» раскаяния, но прежней цельности и радости уже не вернуть – «будет Ольга до смерти расхлебывать со слезами судьбину вдовью». Здесь с большим тактом стилизованы приемы древнерусского духовного красноречия, в свое время нашедшего выражение в многочисленных «акафистах» и «канонах» – характерные параллелизмы, отглагольные «предрифмы»: «Ты, горделивое мое око, любящее себя во всех отраженьях, во всех одеяньях; / ты, тщеславное мое дыхание, кричащее о добрых своих помышленьях, благородных деяньях, – / ты, немилосердное мое сердце, не прощающее обиды, не спешащее на подмогу…»
А в чем свежесть таких стихов, что в них от современной души? Прежде всего юмор, обращенный на себя столько же, сколько на других, и парадокс, выбивающий мысль из ряда привычных представлений. В самом деле, до чего смешно и узнаваемо утреннее пробуждение человека, живущего кое-как: «Грешник, вроде меня, / пятернею чешет ключицу, сон дурной вспоминает; тяжко дышит, недобро / воет его существо; скулят, как волчата, ребра… / Ох, какое непраздничное у него настроенье! / Муха прилипла к блюдцу, где оставалось варенье…» И как неожиданно в стихотворении «Слепой» нашими наставниками, поводырями названы не те, кто оказывает помощь (по сюжету – школьники, навещающие больных стариков и старух), а те, кому она оказывается, кто, живя среди нас, самой своей беззащитностью обучает нас добру и состраданию: «И лишь слепой – уже совсем старик – / идет среди людей, как проводник, / и наизусть твердит свою дорогу». Поклонники Честертона, его современной проповеди, защищенной от скептиков латами юмора и парадокса, конечно, найдут переклички между нею и стихами Олеси Николаевой.
Но почему же все-таки и такую тонкую, одушевленную литературную работу я продолжаю называть «стихопрозой», не торопясь произнести слово «поэзия»?
5
В европейско-американской поэзии наших дней укрепляет свои позиции и претендует едва ли не на господство верлибр – безрифменный «свободный стих», отличающийся от прозаического высказывания подчеркнутым, независимым от подсказанного формальной логикой членением фразы, особой сгущенностью, фантазийностью, афористичностью мысли и остротой рисунка. Сначала это был как бы мостик между стихами и прозой, он привлекал к себе внимание, как всякая граница, и, казалось, без этого контраста с традиционными формами не мог бы существовать. Как, скажем, потеряли бы свое значение «свободные стихи» Блока, если б не соседство с остальной блоковской лирикой. Но вот мерным и рифмованным стихам этому высочайшему достижению культуры нашего ареала, стало, что называется, не хватать жизненного пространства. Прозаичность жизни, ее техницистская «расколдованность», ее неупорядоченность будто бы потребовали от поэта, чтобы он отложил в сторону свой музыкальный инструмент, лиру, старый символ гармонии, согласия, и заговорил с миром на одышливом языке рассогласованности, аритмии. Некоторые умы рано поняли все миросозерцательное значение такого сдвига, всю несводимость его к поискам непривычных средств поэтической речи – в частности, только что помянутый Честертон еще в начале века писал в защиту «романтики рифмованных стихов». В популярности верлибра отразилась новая роль, новый образ действий поэта: именно то, что он не «пророк», не «заклинатель стихий», не «сын гармонии», а взамен собеседник, даже меньше: разговорщик. Азартный, ироничный, меланхоличный, но во всех случаях не пересоздающий мир, а нечто о нем сообщающий. Утратив «магию», такой собеседник стремится вознаградить слушателей игрой интеллекта, виртуозностью наблюдений. Но от этого он прозаичен вдвойне.
Русская поэзия – настоящая твердыня «прежнего» стиха, а значит, и прежнего образа поэта: согласителя противоречий, укротителя хаоса, Орфея. Верлибр, располагающий сейчас недюжинными дарованиями, все-таки продолжает восприниматься у нас как явление окраинное, дополнительное по отношению к остальному массиву поэзии, как сколок с какого-то иноязычного, возможно, интересного подлинника. Но глубинная тенденция, породившая на Западе эпидемию верлибров, действует, конечно, и у нас. Русская «стихопроза» нашла для себя компромиссный эквивалент верлибру – рифмованную, но ритмически расшатанную длинную строку.
Переход А. Кушнера от короткой строки к длинной (совпавший с его переходом на позицию чуть сентенциозного собеседника) явился как бы сигналом для поэтов следующего поколения. Длинной строке (у Кушнера она еще высокоорганизованна, поделена надвое классической цезурой) отдают почти абсолютное предпочтение и Кононов, и Олеся Николаева, и, на свой судорожно-шумливый лад, Парщиков, к ней придвинулись Пурин и Надеев. В этой длинной строке все меньше остается признаков мерности, даже акцентная основа (до Маяковского отчасти уже найденная поэтами-сатириконцами) сохраняется не всегда, и лишь «застежки» рифм свидетельствуют о том, что это речь складная. В такой «длинной строке», приближающейся к раешнику, слова живут отдельно, не вступая между собой в особо тесные, надсмысловые, сверхрациональные связи, справедливо считающиеся свойством исключительно поэтической речи («единство и теснота» «стихового ряда», по сухому, но точному определению Ю. Тынянова).
Поэт до сих пор мыслил словесными целостностями, сращениями. Это касается не только таких великих, поразительных строк, как пушкинское, например: «… и дольней лозы прозябанье», где л неотделимо от з, з от н, рвущееся из-под земли о расцветает широким а – и все вместе не только дает чудесный образ произрастания (тут была бы просто звуковая аналогия, иллюстрация), но, главное, образует одно сверхслово с новым неисчерпаемым смыслом. Это верно и по отношению к обычным строкам больших поэтов, подходящих к стихии слова по-старому – «со властью». Один из литературных друзей Ходасевича восхищался ударными а, придающими трагедийное дыхание «больному» стиху о самоубийце: «Счастлив, кто падает вниз головой…» Или у Пастернака в стихах о Блоке: «Он не изготовлен руками / И нам не навязан никем» – последняя строка с ее сплошными начальными н, словно нерушимая печать. В том-то и дело, что такие строки рождаются целиком и даже как бы всегда существовали в мироздании, в языке, а потом бывают только обнаружены и явлены.
Когда по контрасту обратимся к «растянутым строкам» (он их сам так называет) Кононова:
… сухо поскрипывают шаткие сходни
Над оловянной тяжелой водой, зеленеющей глухо и столь
Непрозрачной и вязкой, что как-то не хочется уезжать сегодня, —
увидим, что он работает со словом как прозаик, как хороший прозаик. Связками эпитетов, непрерывными уточнениями он передает не только внешние обстоятельства, но и настроение: тягостное ожидание «ночного парохода» (так называется эта вещь), когда на душе, бог весть почему, неспокойно, муторно. Здесь налицо достижения психологической прозы, вогнанные в какой ни есть стих. Но поэтического сверхслова – нет.
Можно ли на этом фоне прозаической экспансии в поэзию не заслушаться такими (невнятными? – ну и пусть!) стихами?
Я поймал больную птицу,
но боюсь ее лечить.
Что-то к смерти в ней стремится,
что-то рвет живую нить.
Опускает в сердце крылья,
между ребер шелестит,
надрываясь от бессилья,
под ладонью верещит.
А что дальше? Дальше – еще туманнее: поэт дышит воздухом из клюва этой больной птицы, как видно, свидетельницы страшного события. И вот мерещатся ему, надышавшемуся воздухом смерти, какие-то семеро в степи, шестеро из них пущены враспыл, седьмой неубитым призраком уходит вдаль. Стихотворение называется «Баллада» и взято из маленькой книжечки Ивана Жданова «Портрет».
Раз уж я занималась здесь неоднократными сопоставлениями давней и нынешней поэзии, замечу, что эти и некоторые другие стихи Жданова напоминают «Элегию» поэта-обэриута А. Введенского. Нечего и говорить о прямом влиянии. Просто в современной русской поэзии нет более выразительного примера записи смутных, почти подсознательных образов на всескрепляющей музыкальной основе и в русле единой темы, исходного порыва, завладевшего душой поэта. У Введенского это трагическая тема внутренней, духовной гибели людей его формации, за чем неизбежно должна последовать и гибель физическая. Несмотря на трагизм смысла, а может быть, благодаря ему, череда мысленных картин рождает на прощанье какую-то зачарованную гармонию. Можно назвать это сюрреализмом или автоматическим письмом – как бы при выключенном контроле рассудка. Но как ни назови, самый факт поэтического свершения, достигнутого на столь странных и исключительных путях, остается несомненным.