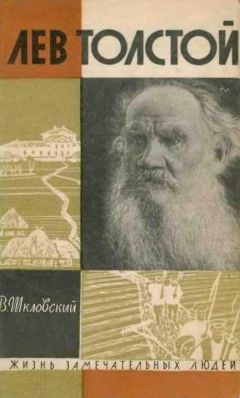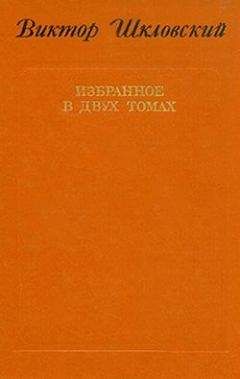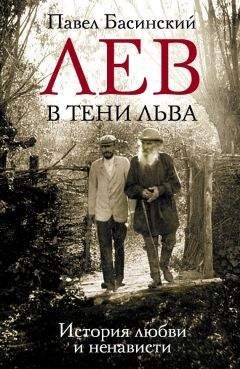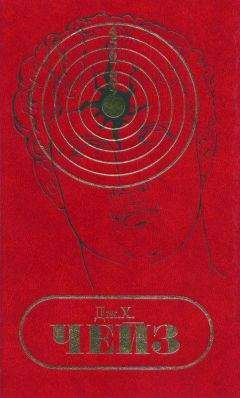Александр Пеньковский - Очерки по русской семантике
УДОВОЛЬСТВИЕ, таким образом, «механично» и «технично» в отличие от РАДОСТИ, которая «органична». Не случайно, что удовольствие портят (ср.: Кто меня благодарит, удовольствие мое портит… – И. С. Тургенев; Он подождал, не желая портить Дортмунду удовольствие… – Смена. 1990. № 3), как портят вещь или механизм, тогда как живую радость омрачают, отравляют и убивают. Убитая, она умирает, как умирают другие светлые чувства или носитель их, человек, но умирает, чтобы возродиться, как божество, к новой жизни или воскреснуть, как Бог, «в жизнь вечную». Удовольствие же нельзя воскресить, и возродиться оно не может. Его можно лишь повторить, вновь включив механизм соответствующей чувственно-физиологической реакции.
УДОВОЛЬСТВИЕ начинает быть и перестает быть, избывает себя, безымянно. В общеупотребительном русском языке нет глаголов, которые могли бы обозначить и назвать эти фазы (бытия? существования? жизни? развития? движения?…) удовольствия. Как, действительно, сказать о его начале? Удовольствие Началось? *появилось? *возникло? *пришло?… И как сказать о его конце? Удовольствие *закончилось? *исчезло? *прошло?… По-видимому, единственную такую возможность представляет описание в «терминах огня» – удовольствие вспыхнуло, разгорелось, угасло. Эти предикаты, однако, принадлежат поэтической речи рус-ского романтизма и не входят в состав общеязыковых метафор.
РАДОСТЬ же, на общелитературном языке, рождается, шевелится, растет, живет и дышит в душе и/или в сердце человека; она покидает место своего обитания и возвращается обрат-но, поселяясь там на время, как гостья, надолго или навсегда;засыпает (и тогда ее будят) и просыпается; затихает или умолкает и заговаривает; скрывается и затаивается и т. п.
Из этого набора общеязыковых предикатов и связанных с ними атрибутов радости – под определяющим влиянием великой христианской идеи Радости и с участием мощных токов европейской культурной традиции – в русской поэтической картине мира складывается и достраивается мифологический образ Радости как живущего на грани двух миров, земного и небесного, прекрасного женственного существа с лицом неземной красоты, с глазами-очами, излучающими небесный свет, с несущим тепло «легким дыханием», с добрыми теплыми руками, с легкими ногами-стопами, на которых радость приходит и уходит, и с легкими, но мощными крыльями-крылами, на которых она улетает и прилетает, окрыляя человека и одаряя его способностью лететь на крыльях радости. Легкий и мягкий свет, который может усиливаться до степени ослепительного сияния восторга, и мягкое живительное тепло, способное превращаться в очистительный огонь, – две основные эманации Радости и одновременно две стихии, которые образуют двуединую – текучую, льющуюся, брызжущую и кипящую, но и дышащую, летучую, веющую, эфирную (отсюда образы волны, и ветра, прилива и порыва) – субстанцию радости в двух ее взаимосвязанных ипостасях: радости души и радости сердца (духа) (ср. [Арутюнова 1976: 98 – 106]). Первая одухотворяет и освящает человеческое, поднимая его к горнему свету.
Вторая – вочеловечивает небесное, принимаемое и постигаемое умным сердцем (ср. [Вышеславцев 1990: 68–70]). В русском культурном сознании этот поэтический язычески-персонифицированный образ Радости как одного из источников жизни и вдохновения (Где радость, там и жизнь – Л. Толстой) существует во взаимодействии с другим, воплощающим христианскую идею Радости, образом, который связан с именем Богоматери (ср. иконы «Всех Скорбящих Радости», «Нечаянная Радость» и др.). Показательно, что непременными спутниками радости в общеязыковых сочинительных рядах являются покой ‘состояние душевной гармонии’, утешение и благодать; вера, надежда, любовь, а также истина, красота и добро, вместе с которыми Радость входит в софийный комплекс (ср. [Хоружий 1989: 79]). Ср. также: «О, сердце, <…> не оглядывайся назад, не вспоминай, не стремись туда, где светло, где смеется молодость, где надежда венчается цвета-ми весны, где голубка-радость бьет лазурными крылами, где любовь, как роса на заре, сияет слезами восторга; не смотри туда, где блаженство, и вера, и сила…» (И. С. Тургенев. Поездка в Полесье, 1857).[17]
УДОВОЛЬСТВИЕ в такой целостный языковой образ не складывается, и это имеет глубокие сущностные основания. Отказывая УДОВОЛЬСТВИЮ в средствах обозначения его начала и конца (см. выше), язык свидетельствует тем самым, что оно лишено длительности. Удовольствие скоротечно и эфемерно. Связанное со своим субъектом, источником и стимулом обязательным единством места и времени, оно зажато в жестких координатах «я – здесь – теперь». Для РАДОСТИ же, которая может быть связана только с мыслью и свободна, как дух, который «дышит, где хочет» (Ин., 3. 8), нет ограничений ни во времени, ни в пространстве. Ей доступны все «там» и любые «тогда». Невозможно, живя в Москве, получить сегодня удовольствие от концерта, который состоялся в прошлом году в Петербурге. Но можно и сегодня – задним числом – радоваться тому, что этот концерт был. Можно радоваться заранее тому, что будет, но от того, что будет, нельзя получить удовольствие наперед. Можно, правда, предвкушать удовольствие, но это совсем не то, что испытать удовольствие, и значит всего лишь ‘с удовольствием думать об удовольствии, которого мы ждем’.
РАДОСТЬ абсолютно бесплотна, и тем не менее для языка она абсолютная реальность. УДОВОЛЬСТВИЕ имеет несомненную материальную – физическую и физиологическую – основу, и тем не менее для языка оно фикция. Радость имеет бытие, существует, живет… Радость есть. Можно сказать: У меня (у него, у нас.) – (была, будет)радость; Там, – радость. Ср.: Окна в сад открыты… В саду – радость, зелень, птицы, прекрасное летнее утро… (Бунин). Удовольствие лишено возможности соединяться с предикатами бытия: *У меня (у него, у нас…) – (было, будет) удовольствие; *Там – удовольствие. Радость можно возбудить (а также разбудить и пробудить) и вызвать. И это еще одно свидетельство того, что она есть. Ее может быть больше или меньше и даже так много, что оказывается возможным говорить о запасах (и даже о неисчерпаемых и неиссякаемыхзапасах) радости. Их берегут и хранят, как сокровища (сокровища радости), и из них же радость черпают, раздают, дают, даруют и дарят. Удовольствие – увы! – нельзя запасти, как нельзя ни дать, ни подарить, ни возбудить, ни вызвать. Его, как скоропортящийся продукт, извлекают и доставляют для немедленного потребления. При этом парадоксальным образом оказывается, что в источнике – до того, как удовольствие извлекли, – его еще нет; в субъекте же – после того, как удовольствие получено, – его уже нет. Это значит, что УДОВОЛЬСТВИЕ с точки зрения языка не более чем иллюзия и химера. УДОВОЛЬСТВИЕ – это сиюминутное «я ощущаю, что мне хорошо». РАДОСТЬ же – это непреходящее «я знаю (понимаю), что это хорошо». Библейское «И увидел Бог, что это хорошо» (Быт., I, 26) говорит не об удовольствии – о радости.
Источником удовольствия могут быть не только действия (собственные действия субъекта и действия других), но и предметы, существующие в окружающем мире; Ваше письмо (статья, книга, подарок, букет…) доставили мне удовольствие / Вы доставили мне удовольствие вашим письмом (статьей, книгой, подарком, букетом…) / Я получил удовольствие от вашего письма (статьи, книги, подарка, букета…). Чрезвычайно важно, однако, что в высказываниях такого рода место актанта-источника могут занимать только неодушевленные имена – названия артефактов. Имена природных объектов в этой позиции, по-видимому, невозможны: *Лес (река, горы, розы, поросятки, кошка, знакомые, Маша…) доставили мне удовольствие / *Я получил удовольствие от леса (реки, гор, роз, поросяток, кошки, знакомых, Маши…). Поэтому, услышав вырванную из контекста фразу Эти ромашки доставили мне удовольствие, мы, очевидно, подумаем скорее о букете, составленном из ромашек, чем о ромашках, растущих на лугу. Поэтому же высказывание Маша доставила мне удовольствие должно быть прочитано как сообщение о событии, в котором Маша играла роль дарительницы источника удовольствия.