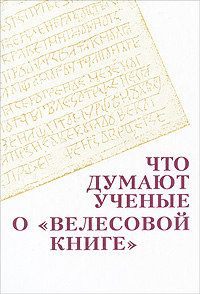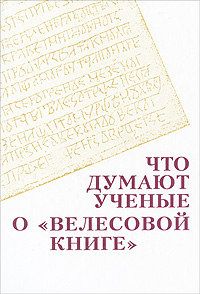Людмила Гоготишвили - Непрямое говорение
Приведенное сравнение с искусственной фразой описательной речи имеет еще один дополнительный смысл, иллюстрирующий другую особенность ивановской символической референции. Формально миф так же событиен (имеет семантическую форму события), как и эта описательная фраза. Но именно на фоне этого примера видно, что аналогично тому, как миф небуквально использует в символе объективирующую силу примененного имени, он небуквально же использует в своей предикативной структуре и языковую силу творения событий. Событие в словесном мифе, как и имя, не буквально, а как бы «инструментально». Не событие в обычном смысле является референтом мифа, но миф посредством языка событизирует свой референт. Подробнее об этой сложной проблеме соотношения события и реального референта мифа мы еще будем говорить ниже.
Среди причин, по которым Иванов настаивал на помещении символа именно в субъектную позицию и на обязательной глагольности предиката, было, вероятно, и стремление подчеркнуть свое «двусоставное» понимание синтаксического строения исходного или семантически глубинного пра-мифа – категории, занимавшей, как известно, особо маркированное место в общей системе ивановских метафизических, религиозных и лингвистических координат. Именно по отношению к пра-мифу была сформулирована «краткая» двусоставная ивановская формула мифа; все другие символические фигуры не укладываются, конечно, со всем своим полным языковым составом и изощренным синтаксисом в эту по существу архетипическую формулу. То же, как уже говорилось, происходило и в самой мифологии. В позже наслаивавшихся на пра-миф сложных мифологемах (а тем более в надстраиваемых над тем же фундаментом философемах) символ и исходный глагольный предикат могли занимать уже любые синтаксические позиции в любых грамматических формах. Могли они и синтаксически «разлучаться» друг с другом, входя в разные частные синтаксические конструкции, но они продолжали тем не менее, по Иванову, фундировать своим одновременным наличием и своим смысловым скрещением общую модальность всего «макротекста». В поэзии, которая вся естественно направлена на сложную семантическую фигурность, символы и скрещенные с ними предикаты тоже синтаксически вездесущи и грамматически метаморфозны, но и в поэзии сквозь усложненные синтаксические конструкции и сложные узоры эмоциональной канвы также просвечивают, по Иванову, некие символические пра-фигуры, осуществляющие первичную, интенционально и модально главенствующую, референцию текста. [42]
Мысль о референциальном сворачивании поэзии в пра-символические фигуры коррелирует с аналогичным ивановским подходом и к области прозы (см., в частности, его идею о наличии «основного мифа», то есть фактически пра-мифа, в глубине романа Достоевского «Бесы» – 4, 437–444). Тема «референциального сворачивания» и «разворачивания» разработана в «Дионисе и прадионисийстве», где, в частности, утверждается наличие особой логики восстановления из «роскошных» поздних мифологем определивших само их существование первичных пра-мифов. Пра-мифы и функционально соответствующие им в разного рода сложных культурных текстах символические пра-фигуры и осуществляют, по Иванову, базовую референцию любого текста; все остальное в нем понимается как многоступенчатая разветвленная предикация (в ее уже обычном лингвистическом смысле) к этой исходной референции. Даже событийно-эмпирический план романов Достоевского есть, с этой точки зрения, последовательно развернутая предикация к глубинному пра-мифу В этом смысле становится понятной некоторая холодность Иванова по отношению к поверхностной сюжетике, «лишь» предицирующей пра-миф, единственно имеющий референциальный выход в план «высшей реальности». В этом же и причина прохладного отношения Иванова к аналитизму логических и философских систем, да и к аналитической речи в целом – ведь они и предназначены «только» предицировать, неизбежно заимствуя при этом референт для своих бесконечных и по самой своей природе склонных к субъективизму предикаций у неаналитических форм языка и мышления.Однако, преднамеренно подчеркнутая острота данного разворота этой многозначной темы не в том, что роман, стихотворение, религиозно-философская система и даже, возможно, типы культур могут, по Иванову, быть условно свернуты в миф, а, напротив, в том, что миф, по Иванову, это – предел «сворачивания» и что сам миф, а вместе с ним и все символические фигуры речи не могут быть в свою очередь свернуты в символ, и тем более – в имя, что возвращает нас к острой теме контрастного сопоставления ивановских идей с имяславскими.
Понимание мифа или символической фигуры как предела «сворачивания» – это, собственно говоря, естественное следствие обязательной, по Иванову, языковой двусоставности символического референцирующего акта, существующего только за счет скрещения двух предикативных зон. Как бы ни менялись синтаксические и грамматические «одежды» этих двух зон, вплоть до синтаксической взаимозамены их позиций, они всегда наличны и всегда скрещены, даже будучи далеко разведены между собой синтаксическим пространством. Естественно, так понимаемый миф не может быть свернут в какой-либо один символ, поскольку изолированный символ, не будучи синтаксически скрещен с другой предикативной зоной, тем самым усекает и даже прекращает референцию. Не может при таком понимании и символ быть развернут в миф, так как последний для осуществления референции нуждается, по Иванову, в синтетическом добавлении к символу второй предикативной зоны – в добавлении «со стороны», а не изнутри самого символа.
Разница с имяславием, в рамках которого миф есть развернутое имя, а имя – свернутый миф, казалось бы, очевидна, но именно на фоне этой очевидности опять обостряется сложная и неоднозначно понимаемая в литературе проблема соотношения символа, мифа и имени. Так, в нашем случае при некотором смещении ракурса естественно возникает вопрос: если символ, по Иванову, не способен к полноценной референции, но к ней способен миф, то, может быть, миф и является при этом именем символического референта, тем более, что в имяславии имя понимается предикативно, то есть тоже в определенном смысле двусоставно? Ивановский символ – не имя, но не является ли именем осуществляющий референцию ивановский миф? Этот вопрос провоцирует необходимость уточнения логического и лингвистического соотношения понятий именования преференции, необходимость установления разницы между ними, которая, если признать таковую имеющейся, сыграет свою роль и при различении имени и мифа.
Имя тоже, как и ивановский миф, осуществляет референцию, более того – является, по всеобщему признанию, базовым способом референции, ее «чистым» случаем. В имяславии же имя фактически признается не только базовым, но единственным способом референции. Тезис о различии именования и референции, «необходимый» для обоснования утверждаемой Ивановым несводимости мифа к имени, предполагает, что имя – не единственный «чистый» случай референции, что, соответственно, референция и именование – не одно и то же, взятое в разных аспектах, но – разные понятия, соотносимые между собой как «цель» и «один из способов достижения цели». Вопрос уточняется: в чем же разница между именем и вероятно имеющимися другими способами референции: между, в нашем случае, именем и мифом как особым символическим способом референции?
В наиболее распространенном понимании считается, что имя референцирует свой предмет непосредственно, минуя понятие (сигнификат) и тем более сложные семантические фигуры, образуемые синтаксисом. Ивановский же миф (везде, где далее употребляется понятие мифа, будут иметься в виду и ивановские символические фигуры речи, осуществляющие референцию аналогично мифу) производит референцию как раз посредством синтаксически сложно организованной фигурной семантики.
Этот очевидный и «простой» ответ, основанный на распространенной формальной лингвистической дефиниции имени, не является, однако, в нашем случае полным, причем с обеих сторон – и со стороны имяславского имени, и со стороны ивановского мифа. Если имя так «просто» отличается от мифа тем, что в нем нет сложносоставнои синтаксической семантики и синтактики вообще, то как примирить с этим очевидным ответом то принципиальное обстоятельство, что в имяславии, как мы помним, специально ослабляется грань между синтаксическим субъектом и предикатом и что само имя понимается там как предикат, то есть – в обычных лингвистических координатах – как явление именно синтаксической семантики? Со стороны же ивановского мифа возникает проблема его различения с обычными расселовскими дескрипциями (типа «автор „Ваеерлея“» или «нынешний король Англии» [43] ), получившими широкое хождение в лингвистике и тоже понимаемыми при этом как способ референции. Проблема здесь в том, что дескрипции тоже, как и миф, являются по своей языковой природе результатом действия синтаксической семантики, но в отличие от ивановского мифа они «не имеют» в своем референте никакой «особости» по сравнению с референтами обычных, синтаксически не распространенных имен. Тут не обойтись без использования дополнительных критериев различия.