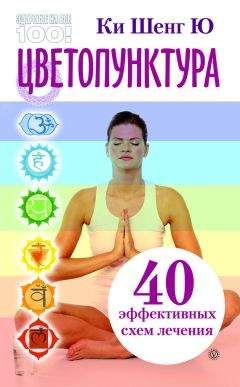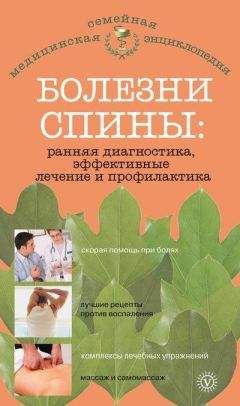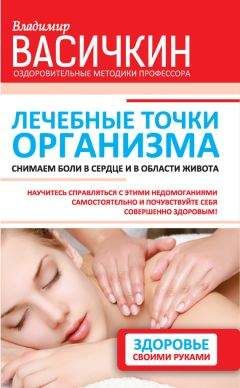Лидия Гинзбург - О психологической прозе. О литературном герое (сборник)
Замечательнейший образ молодого Бакунина, в его динамике и его драматизме, принадлежит не художникам и не мемуаристам. В своих письмах к Бакунину и к общим друзьям этот образ создавал Белинский. Он творил его и разрушал, и творил заново. В микрокосме этой дружбы-вражды, любви-ненависти отражены большие эпохальные сдвиги – распад романтического сознания и становление нового. Русская культура неудержимо двигалась к человеку, понимаемому в его исторической, социальной, психологической конкретности. На этом пути – от раннего Герцена к зрелому Герцену, от Бакунина к Белинскому – есть еще промежуточное важное звено: Станкевич.
Все, писавшие о Станкевиче, обращали внимание на парадоксальный разрыв между скудным философским и литературным наследием Станкевича и силой его воздействия на современников. Об этом говорит Герцен в «Былом и думах» (IX, 17) и особенно подробно Анненков в своей биографии Станкевича, где он назвал его одним «из… замечательных деятелей, ничего не оставивших после себя». «Причина, – писал Анненков, – полного, неотразимого влияния Станкевича заключалась в возвышенной его природе, в способности нисколько не думать о себе и без малейшего признака хвастовства или гордости невольно увлекать всех за собой в область идеала»[62].
Станкевич действительно был окружен какой-то совсем особой атмосферой любви и восторженного почитания. «Невозможно передать словами, – говорит в воспоминаниях о Станкевиче Тургенев, – какое он внушал к себе уважение, почти благоговение»[63]. Благоговейными оценками Станкевича изобилуют письма Белинского. Станкевич призван на «великое дело». «Я встретил в жизни только одного человека, которому безусловно поклонился и теперь кланяюсь и всегда буду кланяться…» После смерти Станкевича Белинский называет его «божественной личностью» и утверждает, что обязан ему всем, что есть в нем человеческого. «Подумай-ка, – пишет он Боткину, – о том, что был каждый из нас до встречи со Станкевичем или с людьми, возрожденными его духом» (XI, 193, 265, 547, 554). Подобным признанием откликнулся на смерть Станкевича и Грановский: «Он был нашим благодетелем, нашим учителем, братом нам всем, каждый ему чем-нибудь обязан. Я больше других»[64].
Герцен, Тургенев, Анненков искали причины значения и влияния Станкевича в том, что он был воплощением совести людей своего круга, чистейшим носителем их нравственных интересов. Но это еще не все. Смысл своеобразного культа Станкевича уясняется полностью только в связи с глубоким умственным переломом, наметившимся в конце 30-х – начале 40-х годов. Бакунинский романтизм был к тому времени уже запоздалым. Идея конкретной действительности входит в кругозор Белинского в 1838 году, даже осенью 1837-го, когда он впервые познакомился с эстетикой Гегеля. 1838 год – переломный и для Лермонтова: это начало работы над «Героем нашего времени». Герцен, Огарев, Боткин – каждый из них на рубеже 40-х годов расстается с романтизмом (другое дело, что какие-то элементы романтического сознания люди 30-х годов сохранили навсегда).
Новое и могущественное движение умов, которое Герцен назвал уже реализмом, отличалось прежде всего универсальностью. Речь шла о новом методе, приложимом к самым разным областям человеческой деятельности, и тем самым о формировании реалистического человека.
Потребность в новом строе сознания, в новом эпохальном герое была напряженной; однако этот новый эпохальный образ отличался пока неопределенностью. Ведь расплывчатым, зыбким был пока и самый термин реализм, еще не оторвавшийся от своих чисто философских значений, от умозрительной формулы противостояния идеального и реального. Модель нового характера еще не сложилась, и в переходный момент требования предъявлялись еще главным образом негативные. Надо было прежде всего избавиться от признаков изживающей себя романтической идеальности – от ходульности, призрачности, фразы. Этой потребности, все более настоятельной, своей личностью ответил Станкевич. Станкевич – раннее и в известном смысле еще негативное воплощение искомого реалистического человека, – и в этом разгадка его безошибочной силы и власти над умами.
Станкевич – человек без фразы. Об этом говорят и Анненков, и Константин Аксаков в своем «Воспоминании студентства»[65]. Именно так воспринимал Станкевича Белинский. «Фразы в нем следа не было, – пишет в воспоминаниях о Станкевиче Тургенев, – даже Толстой (Л. Н.) не нашел бы ее в нем»[66]. Воспоминания Тургенева написаны в 1856 году. Он, конечно, имеет здесь в виду беспощадность нравственных требований и психологических разоблачений, присущую уже ранним произведениям Толстого. Но замечательно, что особую внутреннюю близость к Станкевичу ощутил сам Толстой. В 1858 году, читая переписку Станкевича, только что изданную тогда его братом, Толстой писал: «Никогда никакая книга не производила на меня такого впечатления. Никогда никого я так не любил, как этого человека, которого никогда не видал. Что за чистота, что за нежность, что за любовь, которыми он весь проникнут…»[67]
Толстому было десять лет, когда в письме к Станкевичу (1838) Белинский пытался определить это толстовское начало его личности: «Друг, великая перемена произошла во мне. Я наконец понял, что ты называешь (и так давно называл) простотою и нормальностью. Ты был пошл и идеален не меньше нас, но ты всегда носил в душе живое сознание своей пошлой идеальности и идеальной пошлости и живую потребность выхода в простую, нормальную действительность» (XI, 307)[68].
Именно таким, вышедшим в «нормальную действительность», воспринимали современники Станкевича – с его здравым смыслом, ясностью теоретической мысли и жаждой практической деятельности, даже самой скромной, с его веселостью, смешливостью, любовью к шуткам и «фарсам», о которой вспоминают все его знавшие.
Эволюцию от идеальности к отрезвлению Станкевич проделывал вместе с замечательными людьми своего поколения. Но в его развитии была своя специфика. Оно как бы лишено материального выражения. Оно воплотилось не в произведениях, а в самой личности. И это личность без признаков того романтического шаблона, по которому – в нескольких его разновидностях – строилось столько окружавших Станкевича фигур. У Станкевича был неромантический характер. В отличие от многих других, он не пытался вогнать его в предложенные временем семантические формы. Он оставил свою личность в состоянии несколько бесформенной свободы и изящнейшей простоты. И это в особенности пленяло людей, уставших от изживавших себя, но еще цепких шаблонов.
Станкевич был человеком промежутка, перехода – и совсем не резкого. Он вынес на себе духовное наследие романтизма – проблемы идеала и всеохватывающей любви в первую очередь. Основы его концепций заложены романтизмом и немецкой идеалистической философией[69]. Даже философия действительности, всецело захватившая Станкевича в конце его жизни, открыла ему действительность в гегельянских логических категориях, без тех мощных прорывов в социальное и конкретное, которые с самого начала характерны для гегельянства Белинского.
Самое приложение идеологических формулировок к жизни, их биографическое наполнение обличает в Станкевиче человека, многими связями прикрепленного к романтизму. С ним даже совершались те самые события, какие положено было испытать романтику, вроде одновременного опыта любви земной и любви идеальной. Но вся эта романтическая проблематика и даже практика оставляла личность свободной, не сковывая романтической маской прорезывающиеся черты нового человека. В момент становления этого человека очень важными оказались подобные негативные достижения – отсутствие маски, фразы, позы, типологического шаблона. Станкевич не только человек без фразы – он человек без роли, показавший современникам, что и без роли, без готовой, узнаваемой формы возможна исторически действенная духовная жизнь.
В противоположность Бакунину Станкевич не строил сознательно свою личность; это сделали друзья, его современники. Они строили ее однопланно – как идеал высокого ума и чистого сердца. Этот образ Станкевича был орудием в борьбе с призраками, ходульностью и фразой.
Сам Станкевич, удивительно свободный от любования собой и душевного кокетства, был склонен к критическому самоанализу и строгой самооценке. Отсюда явственное несовпадение между Станкевичем, увиденным извне и изнутри. Сублимированный образ Станкевича нужен был его сверстникам как средство их духовного становления. Такой образ строится путем тщательного отбора, просеивания противоречивого, многосоставного душевного опыта. Человек же, погруженный в этот опыт, не может изнутри осознавать себя – если он не Фома Опискин – в этих однопланных, идеальных категориях.