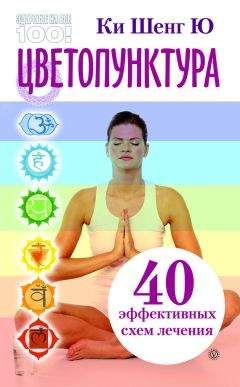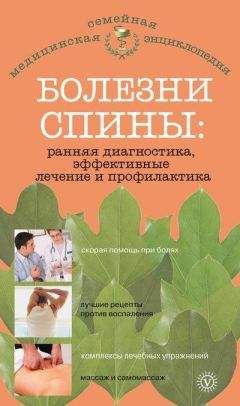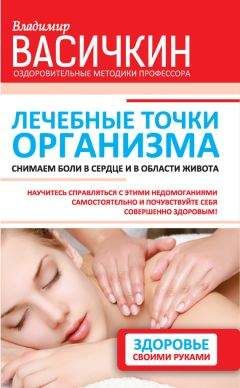Лидия Гинзбург - О психологической прозе. О литературном герое (сборник)
В «Анне Карениной» Вронского впервые упоминает Облонский, предупреждая Левина о существовании соперника: «Вронский – это одни из сыновей графа Кирилла Ивановича Вронского и один из самых лучших образцов золоченой молодежи петербургской… Страшно богат, красив, большие связи, флигель-адъютант, и вместе с тем очень милый, добрый малый. Но более чем просто добрый малый. Как я его узнал здесь, он и образован, и очень умен; это человек, который далеко пойдет». Это свод важнейших определений Вронского и, казалось бы, полная экспозиция, потенциально объемлющая характер. Полнота эта, однако, обманчива.
Сам Вронский появляется в сцене приема у Щербацких: «Вронский был невысокий, плотно сложенный брюнет, с добродушно красивым, чрезвычайно спокойным и твердым лицом. В его лице и фигуре, от коротко обстриженных черных волос и свежевыбритого подбородка до широкого с иголочки нового мундира, все было просто и вместе изящно». Вронский противостоит здесь Левину, рефлектирующему, срывающемуся, подавленному (Кити только что ему отказала), но противостоит не прямолинейно. Вронский говорит, например, о своей любви к деревне: «Я нигде так не скучал по деревне, русской деревне, с лаптями и мужиками, как прожив с матушкой зиму в Ницце». Но для Левина любовь Вронского к деревне и мужикам – это то же, что впоследствии для художника Михайлова занятия Вронского живописью. «Он знал, что нельзя было запретить Вронскому баловать живописью, он знал, что он и все дилетанты имели полное право писать что им угодно, но ему было неприятно».
Итак, при первом своем появлении Вронский уже отнесен к устойчивым моделям: блестящий гвардеец, золотая молодежь, джентльмен, выдержанный, равнодушно-благожелательный.
Если в сцене у Щербацких Вронский противопоставлен Левину, то дальнейшее определение он получает через уподобление среде однополчан, петербургских кутящих офицеров. Эта среда грубее, примитивнее, чем сам Вронский, но она ему соприродна.
Тот же принцип уподобления, с усиленным отрицательным акцентом, в эпизоде с иностранным принцем, к которому Вронский приставлен для приобщения его к удовольствиям холостой петербургской жизни. Вронскому оскорбительно и противно это зеркальное отражение. «Глупая говядина – неужели я такой?»
Все эти нити тянутся из узла первоначальной экспозиции. Как вдруг, в третьей части романа, оказывается, что Вронский – в отличие от Жюльена Сореля – невыводим до конца из первоначальных формул характера. Беспечность и благодушие смещаются под напором совсем других признаков. К ролям блестящего гвардейца и русского джентльмена – не отменяя их, но глубоко преобразуя – присоединяется знакомая роль честолюбца, потерпевшего крушение.
«Вопрос о том, выйти или не выйти в отставку, привел его к другому, тайному, ему одному известному, едва ли не главному, хотя и затаенному интересу всей его жизни. Честолюбие – была старинная мечта его детства и юности, – мечта, в которой он и себе не признавался, но которая была так сильна, что и теперь эта страсть боролась с его любовью».
Два года тому назад Вронский сделал ошибку, «отказался от предложенного ему положения, надеясь, что отказ этот придаст ему бо́льшую цену». Вместо того его забыли и обошли. «…Волей-неволей сделав себе положение человека независимого, он носил его, весьма тонко и умно держа себя так, как будто он ни на кого не сердился, не считал себя никем обиженным и желает только того, чтоб его оставили в покое, потому что ему весело. В сущности же ему еще с прошлого года, когда он уехал в Москву, перестало быть весело». Червь честолюбия точит Вронского; он завидует мучительно своему однокашнику, молодому генералу Серпуховскому.
Так в XX главе третьей части романа возникает почти внезапно вторая экспозиция Вронского, бросающая на первую новый свет. У модели блестящего гвардейца обнаружилась трещина. Это подготовка к конечной катастрофе. Потому что к катастрофе Вронского ведет не только пресыщение любовью, но и жертва честолюбием, которую он хочет простить Анне и не может простить.
Рассказывая о том, как растерявшийся после отставки Вронский примеряет новые роли, Толстой употребляет именно это слово: «…Палаццо этот, после того как они переехали в него, самою своею внешностью поддерживал во Вронском приятное заблуждение, что он не столько русский помещик, егермейстер без службы, сколько просвещенный любитель и покровитель искусств, и сам скромный художник, отрекшийся от света, связей, честолюбия для любимой женщины. Избранная Вронским роль с переездом в палаццо удалась совершенно…»
И все это мираж. В Италии Вронский начинает понимать, что люди ошибаются, «представляя себе счастие осуществлением желания», им овладевает «желание желаний, тоска», он хватается «то за политику, то за новые книги, то за картины». Позднее, в деревне, Вронский будет хвататься за фикции земской деятельности, постройки больницы – неутешительные для человека, считавшего себя предназначенным к большой военно-государственной карьере.
Новая роль – неудовлетворенного и подавляющего свою горечь честолюбца – не отменяет прежние роли Вронского; она их преобразует, создает сложный психологический рисунок[357].
Сложные формы литературы не знают устойчивого отношения между неизменной ролью и поведением. Но самые сложные формы литературы сохраняют, под многими и противоречивыми наслоениями, некие первичные типологические ориентиры для узнавания персонажа.
Это относится даже к причудливым героям Достоевского. У трех братьев Карамазовых, например, есть свои типологические формулы, расположенные на поверхности (что не мешает им вести себя самым непредсказуемым образом). Митя – удалая, отчаянная русская натура, Иван – рефлектирующий герой, со времен Онегина и Печорина занявший столь прочное место в русской литературе, Алеша – праведник[358].
Среди загадочных персонажей Достоевского особенно загадочен Версилов. Разгадки его личности в процессе повествования сменяют друг друга, и при каждой смене остается неразгаданный остаток.
Таинственность Версилова порождена сосуществованием или взаимным вытеснением трех составных пластов этого характера:
1. Версилов – светский человек, барин, образованный помещик крепостной поры. Избалованный, капризный, эгоистичный, равнодушный, высокомерный и неотразимо обаятельный.
2. Версилов относит себя к духовной элите русского образованного дворянства («тысяча человек»). Это, объясняет он Аркадию, «еще нигде не виданный, высший культурный тип, которого нет в целом мире, – тип всемирного боления за всех…».
3. Демоническое начало Версилова. Версиловым овладевает «двойник», и в нем проступают тогда черты «хищного типа» Достоевского.
Взаимодействие этих ролей Версилова строит его образ на всем протяжении романа. Читателю же они становятся известны вместе с первыми упоминаниями о Версилове. Подросток начинает рассказ о себе: «…Двадцать два года назад помещик Версилов (это-то и есть мой отец), двадцати пяти лет, посетил свое имение в Тульской губернии… Любопытно, что этот человек, столь поразивший меня с самого детства, имевший такое капитальное влияние на склад всей души моей и даже, может быть, еще надолго заразивший собою все мое будущее, этот человек даже и теперь в чрезвычайно многом остается для меня совершенною загадкой». Установка значительности и загадочности возникает сразу. И далее сразу же начинается столкновение и взаимодействие ролей Версилова. «…Он был всегда со мною горд, высокомерен, замкнут и небрежен, несмотря, минутами, на поражающее как бы смирение его передо мною. Упоминаю, однако же, для обозначения впредь, что он прожил в свою жизнь три состояния…» В изображение «помещика», русского барина вкраплена черта другого плана. Смирение перед Подростком – это уже из области «всемирного боления за всех». Затем следует история любви Версилова к матери Аркадия – скрещение помещичьих навыков с прозрениями и порывами «высшего культурного типа» (первая и вторая роли Версилова).
Подросток жадно собирает сведения о Версилове. Разговоры со старым князем, с Васиным и с Крафтом (главы вторая, третья и четвертая первой части) подтверждают трехчленную формулу образа Версилова. Старый князь говорит о том, как Версилов проповедовал бога (даже вериги носил), и тут же об его интересе к «неоперившимся девочкам» (двойник). Васин говорит о духовной избранности Версилова: «…Этот человек способен задать себе огромные требования и, может быть, их выполнить, – но отчету никому не отдающий». Из рассказов Крафта, напротив того, выявляется «очевидная подлость Версилова, ложь и интрига, что-то черное и гадкое…» (опять «двойник», «хищный тип»); при этом, однако, все примеры подлости Версилова какие-то путаные, ускользающие, так что возможно и противоположное их толкование.