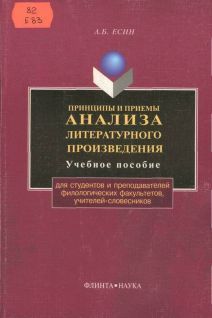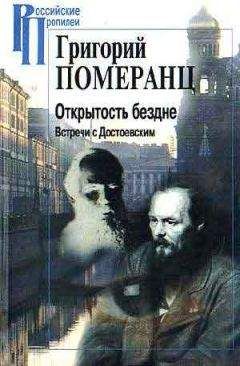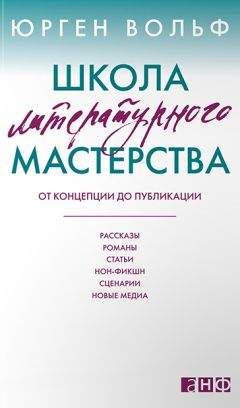Андрей Ранчин - Вертоград Златословный
290
Можно предположить, что составители «повестей о княжеских преступлениях» ощущали недостаток канонических оснований для отношения к убитым князьям как к святым. Составитель Повести об убиении Андрея Боголюбского, вероятно, искал такие основания в библейских и святоотеческих (цитата из Агапита, приписанная Иоанну Златоусту) текстах, говорящих о необходимости повиновения властям и о князе как истребителе неправды ([ПЛДР XII. С. 334]; ср.: [БЛДР-IV. С. 216]). О цитируемом высказывании Агапита см., например: [Вальденберг 1926. С. 31]; [Sevcenko 1954]; [Успенский 1996а. С. 208–210].
О княжеских житиях, в том числе и Вацлавских и Борисоглебских, см. также: [Ingham 1969. Р. 189–192]; [Ingham 1983].
291
Интересно, что в проложных житиях Бориса и Глеба мотивы непротивления убийце и брату Святополку и стремления пострадать как мученики Христовы ослаблены или отсутствуют [Жития 1916. С. 95–100].
292
[ПЛДР XII. С. 330]; ср.: [БЛДР-IV. С. 212]. В так называемой «церковной переделке» (списки XVI–XVII вв.) Повести об убиении Андрея Боголюбского мысль о пролитии Андреем крови за свой народ была изъята [Серебрянский 1915. С. 89. 2-я паг.), — возможно, из-за ее канонической сомнительности или несоответствия контексту (Андрей Боголюбский не принимает смерть за своих подданных, а гибнет в результате заговора).
Ю. В. Кривошеев на основании сравнения убиенного с Христом, одного из убийц Андрея с Иудой, предающим Христа евреям, и обращения Кузмища Киянина к другому убийце, Анбалу (Амбалу) Ясину «жидовине» высказывает предположение о ритуальном (в соответствии с иудаистской моделью принесения в жертву) характере предания князя смерти; некоторые детали убиения и «прозрачный факт участия в убийстве князя некоторых лиц из его еврейского окружения (Офрема Моизича и, возможно, Амбала Ясина)» рассматриваются также как доказательства этой версии. См.: [Кривошеев 2003а. С. 77–85]. В связи с этническим происхождением этих двух убийц Ю. В. Кривошеев ссылается на историографию вопроса в кн.: [Фроянов 1995. С. 643–645].
На мой взгляд, доказательства этой версии совершенно недостаточны, и выглядит она фантастично. По логике исследователя, Яким Кучкович, уподобляемый Иуде, должен быть неславянского (еврейского?) происхождения и, мало того, исповедовать иудаизм; однако никаких аргументов против господствующего мнения о славянском происхождении Якима Ю. В. Кривошеев не приводит. Сомнительно и еврейское происхождение Анбала, названного Ясином (осетином). И, наконец, Офрем и Анбал — всего лишь двое из двадцати (!) заговорщиков.
Уподобление убийц иудеям, повинным в распятии Христа, имеет в повести, конечно, символико-метафорический смысл, а не является этнической идентификацией.
И. Я. Фроянов усматривал свидетельство иудейского вероисповедания Анбала Ясина в именовании его Кузьмищей Кияниным «жидовине» и «еретиче». Однако эти обращения могут быть объяснены иначе: Анбал именуется этими словами как отступник и убийца своего господина, уподобленного Христу; таким образом Анбал соотнесен с евреями, повинными в распятии Христа. (Кстати, соображения И. Я. Фроянова не вполне объясняют обращение «еретиче», если придавать ему буквальный смысл: с канонической точки зрения, иудеи — не еретики, а иноверцы.)
Если бы великого князя Владимирского и Суздальского, неутомимого поборника православия на Северо-Востоке Руси, действительно предали бы смерти иудеи, древнерусский книжник не преминул бы это отметить. Но в Повести об убиении Андрея Боголюбского Ю. В. Кривошеев находит лишь «намеки» на это. Он не приводит, естественно, никаких доказательств существования ритуальных убийств в иудаизме: эта мифолологема принимается им как данность: указывается лишь на случай совершения иудеями в 1770-е гг. убийства в ночь с субботы на воскресенье.
Уподобление убийц князя Иуде и евреям, повинным в распятии Христа, встречается еще в первом памятнике славянской княжеской агиографии — в Первом славянском житии князя Вячеслава Чешского (Востоковской легенде). Ср.: «Да егда възрасте и смысла добы и брат его, тогда дьявол вниде в сердце злых съветник его, яко же иногда в Июду предателя, писано бо есть „Всяк въстаяи на господин свои Июде подобен есть“ [цитата из Тим. 1: 8]»; «и сотвориша злы и той съвет неприязнен, яко же и к Пилату събрася на Христа мысляще, тако же и онии злии пси тем ся подобяще, съвещаяся, како быша убити господина своего» [Сказания о начале 1970. С. 37, 38]. М. Ю. Парамонова, ссылаясь на исследования Д. Тржештика и Ф. Грауса, предполагает, что уподобление заговорщиков, замышляющих зло против господина, Иуде, «видимо, было заимствованием из церковно-правовых постановлений» [Парамонова 2003. С. 170].
Как показал Г. Ю. Филипповский, Вацлавская агиография воздействовала на Повесть об убиении Андрея Боголюбского. (См.: [Филипповский 1986]).
Уподобление подданных, не хранящих верности своему князю, Иуде, предавшему Христа, распространено в древнерусской письменности. Ср., например, Слово о князехъ из сборника Златая Цепь: [Буслаев 2004. С. 245–246. Стлб. 477–479].
293
Показательна интерпретация Е. Рейсманом убийства Глеба как ритуального [Reisman 1978].
294
Недавно М. Ю. Парамонова предложила интерпретацию изображения страстотерпчества Бориса и Глеба как «отождествления покорности Богу и смирения с покорностью и смирением перед волей другого человека — их брата Святополка, с одной стороны, и редукции мученичества к невинной и добровольной насильственной смерти — с другой». По ее характеристике, в отличие от представления добродетелей невинноубиенных святых в латинской агиографии, «[б]лагочестие и мученичество Бориса и Глеба, рассмотренные с точки зрения категорий долга и цели религиозного служения, не имеют сколько-нибудь явного смысла»; «[определяя поведение героев как религиозный подвиг, авторы житий совершают смысловую инверсию, распространяя понятие христианской добродетели на две типичные модели жизненного поведения — пассивность жертвы насилия и верность отношениям родства»; «[д]ля авторов русских текстов мученичество как религиозно значимый акт тождественно смиренному поведению человека, ставшего невинной жертвой насилия. Мученичество теряет функцию религиозной категории, превращаясь в определение страдания и насильственной смерти как таковых, коренящееся в их обыденном и эмоциональном восприятии»; «[м]ученичество, понятое как несправедливая смерть жертвы насилия, рассматривается как путь к очищению от грехов и свидетельство святости и избранности» [Парамонова 2003. С. 315–316 и примеч. 306 на с. 316].
При внешнем сходстве с этими суждениями мое понимание святости страстотерпца иное: ситуация жертвы, убиения сама свидетельствует не только о святости убиенного, но и о его добродетелях. Такая кончина дарована только святому. (Я не касаюсь вопроса о характере народного почитания преждевременно умерших и убиенных.) Природа же святости, по-видимому, намеренно остается не разъясненной и прикровенной, — как вербально невыразимая. Я согласен с мнением В. Н. Топорова, которое пытается оспорить М. Ю. Парамонова [Парамонова 2003. С. 315–316, примеч. 305].
Жесткое противопоставление латинской и древнерусской агиографии, повествующей о невинноубиенных правителях, мне представляется не во всем безусловно оправданным.
Недавно Н. И. Милютенко независимо от меня указала на то, что мотив непротивления встречается далеко не во всех сюжетах, посвященных святым невинноубиенным правителям — как славянским, так и англосаксонским и скандинавским; необязателен он даже в житиях ([Святые князья-мученики 2006. С. 20, 28]. ср. с. 35: «Как мы видели из приведенного материала, добровольно была принесена жертва или нет, неважно»).
По замечанию исследовательницы, «[у]битый правитель воплощал новые христианские идеалы, которые явно соотносились современниками с ценностями старого общества». Жертвенная смерть освящала принципы новой религиозной морали, важен княжеский сан убитых: «Для убитых государей невинность не является необходимым качеством. Статус и принесение в жертву делает (так! — А.Р.) их святыми» [Святые князья-мученики 2006. С. 34, 36].
Сомнительным мне представляется противопоставление почитания правителей-страстотерпцев как «покровителей всего народа или племени, всех составляющих его родов, а не только правящего» «культу предков княжеского рода». Спорно и утверждение, что «[п]олитическое значение эти культы начинают обретать только с окончанием процесса формирования развитого феодального государства, то есть не раньше середины — конца XII в. (на Руси. —А.Р.)» [Святые князья-мученики 2006. С. 272]. Во-первых, источники не содержат свидетельств о том, что с середины или с конца XII в. в почитании Бориса и Глеба проявились какие-то отчетливые новые акценты. Во-вторых, княжеский род именно и мыслился воплощающим полноту бытия земли, и потому противопоставление двух культов ничем не оправдано.