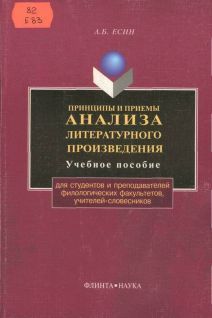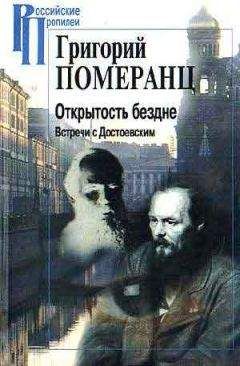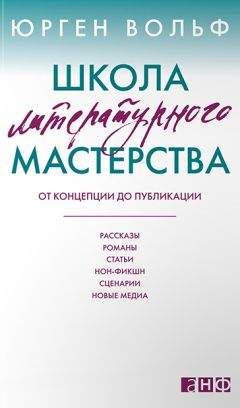Андрей Ранчин - Вертоград Златословный
237
Обзор работ на эту тему см. в кн.: [Lenhoff 1989].
238
См. о них, например, в кн.: [Дмитриев 1973].
239
[Федотов 1990. С. 90–91]. Ср., однако, мнение М. Чернявского о почитании князей и царей московского периода как святых [Cherniavsky 1961. Р. 29–34 ff].
О почитании князя на Руси раннего времени как «совершенного человека» см.: [Одесский 2000. С. 5–7].
240
Исключение — царевич Димитрий. Однако Димитрий почитался — независимо от конкретных политических мотивов канонизации — прежде всего как невинноубиенный отрок. Не принадлежит к числу князей святой Меркурий Смоленский (см. публикации редакций Повести о Меркурии Смоленском в изд.: [Белецкий 1922. С. 55–93]; о семантике Повести и вероятном времени ее возникновения: [Плюханова 1995. С. 63–104]; интересно, что в так называемой Китежской легенде он назван князем [ПЛДР XIII 1981. С. 220]). Подвиг Меркурия — подвиг не страстотерпца, а защитника христианского народа и города.
Впрочем, святой Меркурий, хотя и не является князем, «[б]еаше <…> от рода славна, или се реши — княжеска», но не из русских князей, а из Римской земли (свидетельство Минейной редакции Повести о Меркурии Смоленском); «римлянинъ колена кнжьска» (свидетельство Летописной редакции, текст 2-й подгруппы по классификации О. Н. Бахтиной). В тексте Хронографической редакции сообщается лишь, что Меркурий был «от рода славна». О том, что Меркурий, «Римское княжение и славу суетную, нивочтоже вмениво, оставль княжение, и приято Царство Небесеное», говорится в Службе Меркурию Смоленскому. Слова о «царском венце», которым святой был «от юности оукрашенъ», также говорят о царском/ княжеском достоинстве Меркурия (в данном контексте это не мученический венец). Во Второй службе сказано, что Меркурий происходит «от царска колена». См.: [Святые русские римляне 2005. С. 55, 64, 75, 139, 154, 180). В «Смоленской» и «Народной» (Жулевской) редакциях Повести о княжеском происхождении Меркурия не сказано. Очевидно, не случайно и включение в текст Минейной редакции упоминания о мученической смерти, принятой в это же время от татар другим святым — князем Михаилом Черниговским.
В одном из списков Повести Меркурий Смоленский причислен к роду русского князя — Всеволода Владимирского (Большое Гнездо). О. Н. Бахтина, проанализировавшая это свидетельство, объяснила его неправильным пониманием текста святцев, в котором имя Меркурия соседствует с именем князя Георгия (Юрия) Владимирского, сына Всеволода Большое Гнездо, который погиб в битве с татарами в 1238 г. и местно почитался как святой. (См.: [Бахтина 1985. С. 71]). Интересен, однако, сам механизм такой ошибки понимания: подвиг мученика, принявшего смерть не собственно за веру, а за землю, за город, воспринимается в пределах «парадигмы» княжеской святости. По мнению О. Н. Бахтиной, сказание о Меркурии Смоленском — родиче владимирских князей предполагалось включить в Степенную книгу.
Н. В. Рамазанова объясняет именование Меркурия «римским князем» как перенесение на смоленского святого социального статуса его «прообраза» и «двойника» — мученика Меркурия Кесарийского, который «стал военачальником», благодаря чему «вошел в аристократическое сословие всадников и стал принадлежать к римской знати»; княжеский статус смоленского святого она истолковывает просто как указание на знатное происхождение и вероятную принадлежность к роду Меркурия Кесарийского [Святые русские римляне 2005. С. 7–8]. Это объяснение представляется спорным: Меркурий Кесарийский князем не был и так не именовался. Отождествление древнерусскими книжниками принадлежности к привилегированному сословию всадников (строго говоря, даже не аристократическому) с княжеским саном сомнительно; едва ли при сравнении Меркуриев подразумевались их одинаковый социальный статус и/или сан.
241
О сакрализации фигуры царя на Руси см.: [Живов, Успенский 1987]. Работа переиздана в кн.: [Успенский 1995а]. См. также: [Панченко, Успенский 1983. С. 54–78]; [Успенский 1982б]; [Успенский 1998].
Сходные процессы происходили и на средневековом Западе. Ср. замечания Ж. Ле Гоффа о почитании Людовика Святого: «В конце концов, Людовик Святой — это святой между традицией и современностью, унаследованной от королевской святости Высокого Средневековья, но при этом она не переходит окончательно в индивидуальную святость осени Средневековья, окрашенную любовью к ближнему и мистикой. Он — последний из святых королей, если не считать его квазисовременника Фердинанда III Кастильского, который, впрочем, был канонизирован лишь в 1671 году. <…> После него (Людовика Святого. — А.Р.) <…> монархи абсолютные уже не обретали личной святости, отныне несовместимой с сакрализацией государства. Канонизируемыми монархами отныне будут только Папы» [Ле Гофф 2001а. С. 614].
Отношение к сану правителя в Великом княжестве Московском (примерно с середины — второй половины XV в. и особенно после его превращения в Российское царство), очевидно, напоминает восприятие императорского сана и фигуры василевса в Византии. «Власть князей на Руси (в домосковский период. — А.Р.) также признавали божественной, но тогда как в империи обожествляли скорее самый сан императора, чем его отдельных носителей (вплоть до конца империи не был канонизирован ни один василевс, кроме Константина I), в Древней Руси (домосковского времени. — А.Р.) обожествляли именно отдельных князей, нарекая их патронами и покровителями всей „русской земли“» [Литаврин 2000. С. 331–332], со ссылкой на Д. Оболенского. Ср. высказывания С. С. Аверинцева: «Византийский монархический строй был унаследован от Римской империи. Из этого вытекало два очень существенных обстоятельства.
Во-первых, Римская империя генетически восходит не к архаической патриархальности, а к режиму личной власти удачливых полководцев <…>. Недолговечные династии могут приходить и уходить, но династический принцип как факт морального сознания отсутствует. Очень слабо также и представление о долге личной верности особе императора: и в Риме, и в Византии монархов легко свергали, умерщвляли, порой публично, при участии глумящейся толпы. Это не значит, что для византийца не было ничего святого: самым святым на земле для него являлась сама империя, совмещавшая в себе <…> самодостаточную полноту политико-юридических, культурных и религиозных ценностей. <…> Да, империя очень свята и свят императорский сан; но саном этим должен быть облечен самый способный и самый удачливый, а если это узурпатор, пожалуй, тем очевиднее его способности и его удачливость. (Удачливость вождя, военачальника, политика воспринималась не как внешнее по отношению к нему самому стечение обстоятельств, а как имманентное свойство его личности, мирская „харизма“. <…>)». Как напоминает С. С. Аверинцев, очень показательно, что «русские великие князья представляли собой единый род, а константинопольский престол был открыт любому авантюристу, пришедшему ниоткуда. Важно было, что монархия на Руси не сложилась как прагматический выход из положения, но выросла из патриархальных отношений» [Аверинцев 2005а. С. 336, 338].
242
Это естественно уже хотя бы потому, что домосковская Русь не была монархией в собственном смысле слова (независимо от того, носили ли киевские князья титул «царя», как полагает, в частности, Б. А. Рыбаков [Рыбаков 1984. С. 63–64, 144–145], или слово «царь» не было устойчивой титулатурой). О титуле «царь» см. прежде всего: [Водов 2002. С. 506–542].
243
В так называемой Минейной редакции жития Вячеслава, вторичной по отношению к Востоковской легенде [Weingart 1934. S. 943] и, вероятно, созданной на Руси, постриг понят как обряд интронизации [Сказания о начале 1970. С. 60–61], хотя о настоящей интронизации Вячеслава сообщается ниже.
Впрочем, возможно, этот эпизод Минейной редакции восходит к чешскому протографу, в данном случае отличающемуся от Востоковской легенды.
Сходный мотив есть и в латинской легенде Лаврентия о св. Вячеславе [Laurentius 1973. Р. 28–29]. У Лаврентия, правда, описывается крещение, но есть достаточные основания для предположения, что агиограф, не знакомый с обрядом пострига ребенка, встретив его описание в своем источнике (близком к Востоковской легенде), счел, что речь идет о крещении. (См.: [Třeštík 1991. S. 642–645]).
244
Ср. образ княжеской братской свечи в речи Льва Данииловича Галицкого (Ипатьевская летопись под 6796/1288 г. [ «Абы ты, брат мой, не изгасилъ свече над гробомъ стрыя своего и братьи своей, абы далъ городъ свой Берестий — то бы твоя свеща была»] — [ПЛДР XIII 1981. С. 402]) и в духовной грамоте Симеона Гордого.